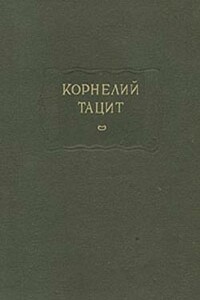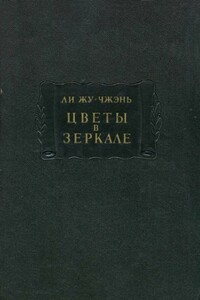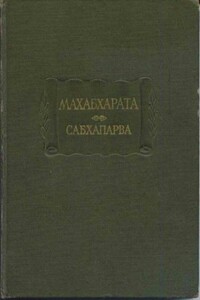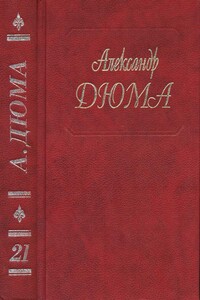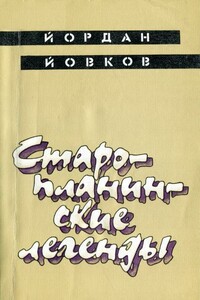Кадамбари | страница 109
Ты помнишь, еще при тебе я высказал Пундарике свое недовольство им и сурово его укорил. А потом, охваченный гневом, я бросил собирать цветы и поспешил его покинуть. Когда же ты ушла домой, я некоторое время выжидал, гадая, что он делает в одиночестве, а затем вернулся и, спрятавшись в кустах, начал его повсюду высматривать. Но Пундарику я так и не увидел и принялся размышлять: „Не отправился ли он вслед за этой девушкой, окончательно сломленный любовью? Или, собравшись с духом после ее ухода, он из чувства стыда избегает встречи со мной? А может быть, рассердившись, он решил уйти, меня не дождавшись? Или же он пошел меня разыскивать и бродит теперь невесть где?“ Задавая себе эти вопросы, я некоторое время не трогался с места. Но потом, обеспокоенный, что с момента моего рождения мы первый раз с ним расстались, я подумал: „В отчаянии от собственной слабости он мог учинить над собой все что угодно. На что не решишься из чувства стыда! Нет, нельзя оставлять его одного“. Так подумав, я принялся повсюду его искать. Но поиски мои оставались тщетными, и чем дальше, тем больше сердце мое полнилось страхом за любимого друга и предчувствием какого-то несчастья. Я довольно долго блуждал, углублялся в чащу леса, старательно осматривал вьющиеся среди сандаловых деревьев тропинки, заросли лиан, берега Аччходы. И наконец я увидел его: он сидел неподалеку от озера в гуще лиан, которые так тесно сплелись друг с другом, что казалось, сплошь состоят из цветов, пчел, кукушек и попугаев, и которые были так прекрасны, что казалось, именно здесь родилась весна. Ничего не делая, не шевелясь, Пундарика выглядел нарисованным, или высеченным из камня, или впавшим в оцепенение, или умершим, или спящим, или погруженным в молитвенное размышление. Хотя он не двигался с места, но далеко ушел от верности долгу; хотя он был в одиночестве, но имел спутником бога любви; хотя и пылал страстью, но был бледен; хотя и пусто было его сердце, но в нем жила его любимая; хотя он молчал, но тем самым громко славил могущество Камы; хотя и сидел на камне, но опору себе искал в смерти.
Его терзал бог с цветочными стрелами, который, словно из страха быть проклятым, старался остаться невидимым. Он застыл в оцепенении, и казалось, что его покинули чувства, устремившись в глубь сердца, чтобы повидать там его возлюбленную, или же не вынеся нестерпимого жара его страсти, или же разгневавшись на рассудок за постигшее их смятение. Из его сомкнутых глаз, словно бы застланных дымом пылающего костра страсти, непрерывным обильным потоком струились сквозь ресницы горькие слезы. От его глубоких вздохов на ближайших лианах трепетали красные, как его губы, лепестки цветов, и казалось, что с этими вздохами вверх вздымается пламя любви, пожирающее его сердце. От зеркала ногтей на его левой руке, которой он подпирал щеку, падали светлые блики на лоб, и казалось, что это светится тилака, нанесенная белой сандаловой мазью. Словно бы украшая его уши темными лотосами или листьями тамалы, вокруг него вились черные пчелы, жаждущие вкусить то, что осталось от аромата кисти цветов Париджаты, и казалось, своим монотонным жужжанием они нашептывают ему заклятия, вызывающие любовное опьянение. От лихорадки любовной страсти у него на коже поднялись все волоски, и казалось, что тысячи шипов цветочных стрел Камы поразили каждую пору его тела. Будто древко знамени своего безумия, он сжимал в своей правой руке жемчужное ожерелье, которое, словно бы от блаженства касания его ладони, устремило вверх тысячи сверкающих волосков-лучей. Деревья осыпали его цветочной пыльцой, будто волшебной пудрой, подчиняющей человека власти любви. Сорванные порывами ветра, на него падали листья растущих поблизости ашок, словно бы удваивая своим красным блеском жар его страсти. Лесные девы обрызгивали его нектаром из распустившихся чашечек цветов, словно бы омывая его влагой любви. Желтые лепестки цветов чампаки, привлекая своим ароматом тучи пчел, сыпались на него с деревьев, и казалось, что это бог Кама стреляет в него раскаленными стрелами, летящими в облаках дыма. Повсюду жужжало множество пчел, опьяневших от пряных лесных запахов, и казалось, что это ветер высмеивает его своим свистом. Слышалось звонкое нестройное пение стай веселых кукушек, и казалось, что это месяц мадху хочет повергнуть его в смятение громким криком: „Слава весне!“ Он был бледен, как луна на рассвете, высох, как русло Ганги летом, скрючился, как сандаловая ветка в огне. Он казался мне кем-то на себя не похожим, или никогда не виденным прежде, или совсем незнакомым, или обретшим другое рождение, или принявшим новый образ. Он выглядел как одержимый злым духом, как попавший во власть могучего демона, как родившийся под несчастливой звездой, как безумец или страдалец, как глухой, слепой или немой. Разум его покинул, сам он как бы растворился в любви и страсти, и прежний его облик стал неузнаваем.