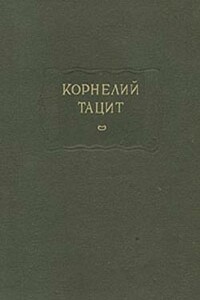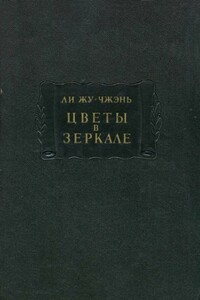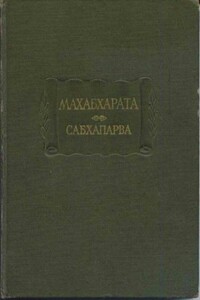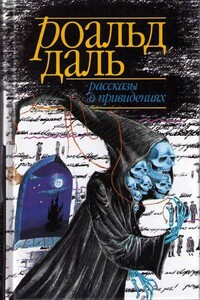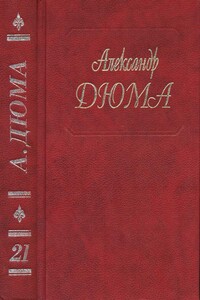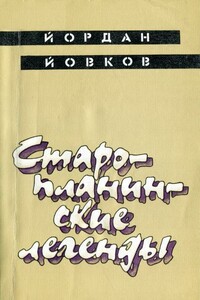Кадамбари | страница 101
Тут я заметила за ухом молодого подвижника кисть цветов, никогда не виданных мною прежде. Эта кисть светилась, будто блеск улыбки богини леса, обрадованной приходом весны, казалась пригоршней спелого риса, которой месяц мадху приветствует первые порывы ветра с гор Малая, или юной прелестью богини цветов, или гирляндой капель пота, которая проступила на лбу Рати, утомленной долгой любовной игрою, или опахалом из павлиньих перьев, развевающихся, словно победоносное знамя, на голове слона бога любви. Цветы, увлажненные медовым нектаром, словно бы томились в ожидании своих любовников-шмелей и были похожи на звезды, собранные в созвездии Криттика.
Благоухание этой кисти показалось мне, поистине, слаще запахов всех на свете цветов, и, глядя на молодого подвижника, я подумала: «Ах, неисчерпаема у Творца кладовая красоты, если он смог извлечь из нее такое сокровище! Ибо, уже сотворив благого бога с цветочными стрелами, чья прелесть приводит в смятение три мира, он сумел создать и этого второго бога любви, чья красота сияет еще ярче. Думаю, что когда Праджапати порождал на свет луну, радующую взоры всех людей, или лотос, ставший желанной обителью Лакшми, он только примерялся к искусству творения лика этого юноши. Иначе какой бы был смысл в создании столь сходных вещей! И конечно, выдумка, что солнце своим лучом, зовущимся Сушумна{250}, выпивает свет луны, когда она убывает в темную половину месяца: на самом деле весь лунный свет сосредоточился в его теле. Иначе откуда взялось бы это совершенство красоты у того, кто предан покаянию, которое, как известно, не щадит красоту и сулит одни мучения!»
Пока я так размышляла, бог любви с цветочными стрелами, не различающий добро и зло и жалующий лишь красоту и молодость, покорил меня, как цветок, благоухающий медом, покоряет пчелу. Я смотрела на юношу долго-долго, смотрела сквозь полузакрытые ресницы, смотрела неотрывно, жадно, затаив дыхание и не моргая, как если бы хотела всего его выпить взглядом, и мои глаза, с их трепещущими, сверкающими зрачками, словно бы полыхали разноцветными зарницами. Я смотрела на него, будто о чем-то его умоляя, будто шепча «я вся твоя», будто вверяя ему душу, будто заклиная дать мне место в его сердце, и, хотя сознавала, что делаю что-то недостойное, постыдное, неподобающее девушке высокого рода, я потеряла власть над своими чувствами. Я смотрела на него, оцепенев всем телом, словно пораженная параличом, или нарисованная на картине, или вырезанная из камня, или застывшая в обмороке, или накрепко запеленутая, или кем-то связанная. Я смотрела на него, всецело покорившись неведомой силе, которая повелевает, не нуждаясь в словах, которую трудно назвать и дано только чувствовать — сама не знаю точно какой: то ли совершенству его красоты, то ли собственной прихоти, то ли богу любви, то ли порыву юности, то ли чему-то иному, на них похожему, — не знаю, не знаю… Меня как бы подхватили и несли навстречу ему мои чувства, влекло вперед мое сердце, подталкивал сзади бог с цветочным луком, но кое-как я умудрилась остаться на месте, хотя и не была способна ни на какие усилия. А затем из моей груди, словно бы уступая место Каме, хлынули непрерывным потоком ветры вздохов. Соски на груди поднялись, словно бы желая провозгласить, что сердце мое покорно любви. Чувство стыда исчезло, словно бы смытое потом. Нежное тело затрепетало, словно бы в страхе перед острыми стрелами Маданы. На руках, страстно жаждущих объятий, поднялись волоски, словно бы пытаясь взглянуть на его красоту. Красный лак, смытый с обеих ног влагой пота, словно бы проник в виде пламени страсти в мое сердце.