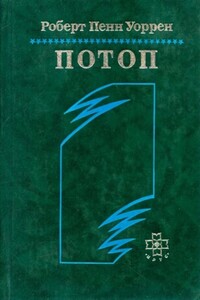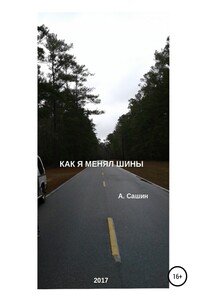Воинство ангелов | страница 60
И вспоминаются мне слова одного из педагогов в Оберлине: «Философ этот учит, что мы — это всего лишь поток ощущений вперемешку с воспоминаниями. А тогда что есть человек? Но мы должны возразить ему следующее: как могли вы забыть про душу, без которой невозможно ни чувствовать, ни вспоминать?» Я записала это в свой дневник.
Но именно душа во мне и была убита тогда, на кладбище, возле отцовской могилы, убита его предательством. Не такими словами, конечно, я это выражала. Я не могла выразить это в словах, сформулировать. Ненависть моя не достигла еще того накала, который допускает словесное выражение. Я ощущала только оцепенение и расплывающиеся контуры всего вокруг, в то время как существо мое потеряло определенную сущность, словно подтверждая бездушный приговор закона, по которому я являюсь лишь имуществом, вещью без лица и души. Я болталась в этой пустоте обезличенности и оцепенения, смутно предчувствуя лишь будущие страдания.
Но мыслимо ли передать то, что я испытывала, тому, кто не испытал подобного? А может быть, каждому доводилось испытать нечто похожее?
И вот зажатую в пролетке между коренастым и звероподобным телом того, кто растолковал мне мой юридический статус, и сухим костяком старого мистера Мармадьюка, объяснившего мне, так сказать, мой статус экономический, меня несло вперед в гаснувшем свете дня мимо сумеречных, по-зимнему бедных лугов и полей, мимо лесных чащоб, оглашаемых лишь дальним вороньим карканьем, прочь из прекрасного края песен и легенд, из Кентукки, обиталища счастья и радости.
Мы ехали все дальше, а перед моими глазами все еще маячил Старвуд, такой, каким я увидела его, оглянувшись в последний раз, когда пролетка покатила по аллее: могучие деревья и промелькнувший за ними, как бы отступавший во мрак белый усадебный дом, а на переднем плане, под деревьями, кучка людей — какой-то джентльмен заботливо помогает подняться тетушке Сьюки, какая-то дама склонила голову и прижимает к лицу руку, будто не в силах смотреть на открывшуюся ей картину, и еще другой джентльмен, он выступил вперед, отделившись от группы одетых в черное фигур, его правая рука решительно поднята, словно он кричит или зовет.
Но если он и кричит, крика не слышно, и помню я лишь жест его и фигуру, навеки застывшую в моей памяти, как застыли все они, все эти фигуры в памяти, скорбной для меня — нет, и для них тоже, — когда мы устремлялись в сгущающейся тьме к скупым огням Данвилла, где меня поместили на чердаке огромного, почти без мебели, гулкого дома мистера Мармадьюка. Заперли на чердаке.