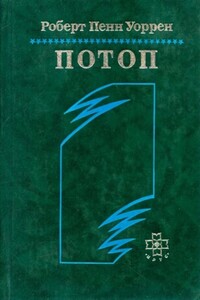Воинство ангелов | страница 35
— Но ведь ты продал Шэдди, — сказала я и тут же поняла, что попала в яблочко.
После секундного колебания он веско заметил:
— Это другое дело.
Но я едва расслышала этот ответ, переполненная каким-то новым, могучим и непонятным чувством. Меня что-то властно подняло с подушек, и, подавшись вперед к отцу, я настойчиво продолжала:
— Зачем, зачем ты его продал?
В голосе моем были слезы. Я вдруг почувствовала, что должна это знать.
Ответа не было. Потом отец неловко заворочался на стуле, глаза его опять блеснули в темноте. Все, что мог он сказать, это:
— Иногда, детка, приходится делать и неприятные вещи.
— Но почему ты тогда так поступил? — спросила я, захваченная этим допросом.
— Иногда приходится делать и то, чего не хочешь.
Я придвинулась к нему совсем вплотную. Словно чья-то сильная рука толкнула меня в спину.
— Но ты же хотел! — выкрикнула я.
Я надвинулась на него, сидя на самом краешке постели в позе обвинительницы, и мне казалось, что мрак сползает с его лица, обращается в бегство под натиском ошеломительной правды моих слов, ошеломительной даже для меня самой, хотя и совершенно непонятной.
И я спокойно сказала:
— Ты ревновал меня к нему, — и откинулась на подушки умиротворенная, очистившаяся.
Отец не сказал мне ни слова. Он продолжал молча сидеть возле меня, пока я не уснула.
Наутро, расставаясь, мы чувствовали какую-то скованность и холодок, и я рада была возвратиться в Оберлин к жизни, которую понимала теперь лучше, чем собственного отца. Отцовские письма я по нескольку дней оставляла нераспечатанными. Я много молилась. Все последующие месяцы, даже видясь с отцом, я сохраняла дистанцию, замкнувшись в тесной каморке своей души, как замыкается в углу ветшающего особняка человек, которого внезапно постигло разорение, — хоронится там среди пыли и паутины, питаясь жалкими крохами, корками хлеба и затхлой водой. Печальная история моя стала всем известна. Я была девочкой, которую отец отверг вместе со спасением, что не мешало ей продолжать молиться за него. Те, кто был понабожнее, стали проявлять ко мне особую нежность: я как бы выросла в их глазах. Другие выражали мне осторожное сочувствие.
Осенью, уже после сбора урожая, в моем отношении к отцу произошла перемена. По обыкновению учащиеся Оберлина помогали лущить кукурузу — чистить початки для нужд своего колледжа или же в качестве благотворительности — чаще всего для семейства какой-нибудь бедной вдовы. Наградой за труд нам было веселое общение. Мы пели подходящие случаю песни, рассказывали истории и, по молодости лет, наслаждались обществом друг друга. В тот день, помнится, я была в особенно приподнятом настроении.