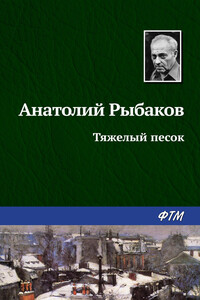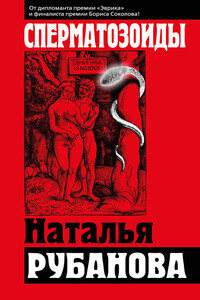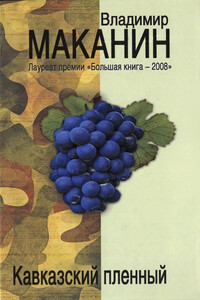Черновик человека | страница 32
Валентина молчит, опустив глаза.
А может, она просто притворяется. Вот сейчас поднимет голову, улыбнется, как раньше улыбалась, подмигнет одним глазом, конечно, помню, может, чай попозже – а пошли-ка лучше в спальню. Когда она ходит по квартире за ним по пятам, не произнося ни слова, когда начинает поскуливать, если он исчезает в туалете, он все думает: может, это просто игра, вот взяла себе такую детскую привычку, чтобы его позлить; пусть окажется, что это игра.
Георгий Иванович разливает чай, подвигает чашку к Валентине. Чашка ярко-красная – чтобы жена лучше могла ее разглядеть на деревянном столе. Пей, дорогая. Вот печенье. Печенье теперь приходится покупать в магазине, жена больше ничего не готовит.
Она поднимает неподвижное лицо. Таких неподвижных лиц не бывает у людей – Валентина ли это вообще, или неживой, злобный двойник ее? Она смотрит на чай. Пей же, пей, Валя. Осторожно она берет чашку, подносит к губам. Горячая жидкость проливается ей на грудь.
Когда-то был шум аплодисментов, когда-то были стадионы, вечера в библиотеках, в концертных залах. Восторженная студентка ждала его за кулисами, чтобы взять автограф. Прикасалась к нему, как к божеству, диктовала свой телефон. Сколько ей было бы лет сейчас. Наверное, не больше пятидесяти. Молодая еще женщина. Заботливая. Любящая. Если бы он тогда позвонил по телефону, назначил свидание, ушел от жены. Сейчас над ним склонялась бы нежная возлюбленная. Ведь он мог прожить еще одну жизнь, мог, еще одну молодость, если бы только осмелился тогда. Имел бы сейчас детей. В доме было бы шумно.
Он вытирает пятно от чая на груди жены. Хочешь переодеться? Она не отвечает, громко хлюпает, втягивая в себя жидкость. Вот, я тебе повяжу полотенце, чтобы ты опять не облилась. Валентина срывает полотенце, отодвигает чашку. Сидит неподвижно, смотрит в окно. В глазах слезы.
А ведь он сначала даже не волновался, когда она стала путать слова. Думал, это у нее новая манера. В этом было что-то поэтическое. «Гроза» называлась «оса», «туфли» – «плавать». Почему плавать? Потому что «лодочки». «Тяжелое на рубашку» был утюг, «корты» – «шорты». От нее уходили слова, что-то рвалось в мозгу, а он слышал только поэзию, записывал ее выражения в книжечку, пытался составлять новые строчки по вечерам, даже хвалил ее, умница ты моя.
С тех пор он не написал ничего.
Давай я еще воды вскипячу. Он идет на кухню. Сердце так и не успокоилось после бега, все еще стучит. Надо вздохнуть поглубже, вот, и еще раз, вот. Посмотреть в окно, там сад, деревья, небо, чирикает кто-то, вот и хорошо, вот и спокойно, тише, тише, не надо стучать, сердце, не надо стучать.