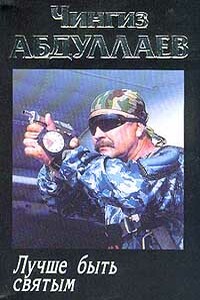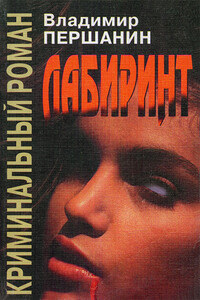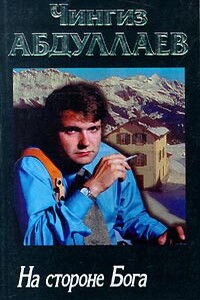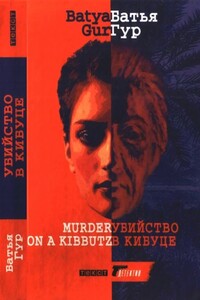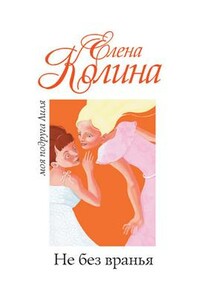Убийство на кафедре литературы | страница 136
— А с адвокатом вы говорили?
— Нет, я его не знаю. Может, надо было… теперь я так думаю…
Он растерянно глянул на Михаэля.
— Но ведь у вас есть адрес и телефон адвоката? — напряженно спросил Михаэль.
Клейн энергично кивнул и в растерянности посмотрел по сторонам:
— Да, у меня есть, надо поискать. Сейчас?
— Это может подождать немного.
Михаэль спросил, а действительно ли Клейн хорошо знал Тироша, и почувствовал, что собеседник напрягся и стал нервничать.
— Я уже сказал, — ответил он, — вы не первый, кто меня об этом спрашивает, и, по правде говоря, теперь я думаю об этом постоянно. До последнего времени я полагал, что хорошо его знаю, то есть знал. Я знал его с тех пор, как он прибыл в Израиль. Мы вместе учились, еще в «Терра Санта». Он захаживал к нам как минимум раз в неделю, вплоть до последних лет.
— А что случилось в последние годы?
Губы Клейна искривились.
— Трудно сказать определенно, — медленно проговорил он, — но я думаю, мы с ним стали вести разный образ жизни. Тирош все более обособлялся, становился высокомерным, я шел своим путем, он — своим. С годами у меня накапливалась злость на него. Когда я руководил кафедрой, студенты жаловались на несправедливые оценки, на то, что он не выполняет своих обязательств. Были между нами принципиальные споры на заседаниях кафедры — это, разумеется, не нарушило наших личных отношений, однако, как известно, тяжело сидеть за одним обеденным столом с человеком, который час тому назад грубо и дерзко говорил нечто такое, что противоречило его собственному кредо, а теперь яростно это защищал. Лишь в немногих вещах мы соглашались, и я полагаю, что если бы вы знали нас обоих, то удивлялись бы тому, что нас связывает, а не тому, что разделяет. Надо понять: между нами не происходило ничего драматического, никакой войны, не было разрыва, лишь постепенное расхождение. Он стал навещать нас все реже, а когда приходил, долго и угрюмо молчал.
Клейн на несколько секунд остановился, как будто представил себе какую-то картину.
— Офра, моя жена, утверждала, что в нем вызывает презрение наш «буржуазный» образ жизни, но я склоняюсь к другому. Я не сомневаюсь, что с тех пор, как он перестал писать, его жизнь становилась все более пустой. О Шауле можно много разного порассказать, но все согласятся: уж в поэзии-то он разбирался. И никто меня не убедит в том, что он сам мог считать хорошими свои последние, политические стихи. Он-то наверняка знал им цену. И если он уже не мог писать, то каково было оправдание его жизни? Той жизни, которую он вел, — одинокой, в погоне за наслаждениями, с эмоциональным голодом. Что мы могли ему предложить, видя, что он стал бесплодным?