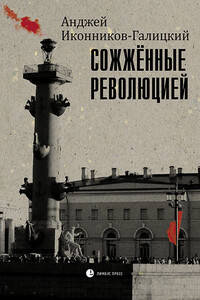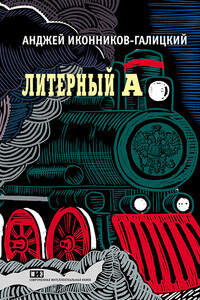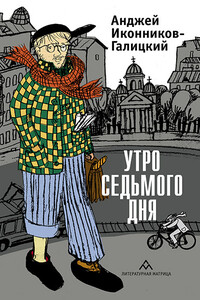Чёрные тени красного Петрограда | страница 48
Странное зрелище являл собой великий имперский город после пережитых им революционных бурь. Летучий голландец. Город-труп, город-призрак. Полупустые улицы, замусоренные дворы, выбитые стёкла, расквашенные фонари, обваливающаяся лепнина роскошных особняков, заколоченные досками накрест парадные подъезды… По весне на Невском сквозь растрескавшиеся торцы деревянной мостовой весело пробивалась травка. Обитатели этих сумрачных полуруин сами походили на призраков: худые, бледные, оборванные, они скользили вдоль домов опасливой походкой, озираясь: нет ли облавы, не гонятся ли грабители.
Контраст с дореволюционными временами, с тогдашним блеском и великолепием, чопорностью и торжественной яркостью, богатством и деловитостью столицы Российской империи был неизмерим. Особенно он бросался в глаза иностранцам, имевшим возможность сравнить тот Петербург и этот Петроград.
Американская анархистка Э. Голдман, бывавшая в России по делам социальной борьбы до революции и вновь посетившая Петроград в 1920 году, не без изумления писала: «Санкт-Петербург всегда оставался в моей памяти яркой картиной, полной жизни и загадочности. Я нашла Петроград в 1920 году совершенно другим. Он был почти в руинах, словно ураган пронёсся через город. Дома походили на старые поломанные гробницы на заброшенном кладбище. Улицы были грязные и пустынные: вся жизнь ушла с них. Люди проходили мимо, похожие на живых покойников».
Пылкой американке вторят другие наблюдательные авторы. Английский журналист А. Рэнсом, побывавший в Петрограде в 1919 году, ужасался: «Улицы были едва освещены, в домах почти не было видно освещённых окон. Я ощущал себя призраком, посетившим давно умерший город». Французский социалист сербского происхождения В. Кибальчич, писавший под псевдонимом В. Серж и тоже приехавший в Петроград в год апогея Гражданской войны, эмоционально дополняет картину: «Мы вступили в мир смертельной мерзлоты. Финляндский вокзал, блестящий от снега, был пуст. Широкие прямые артерии улиц, мосты, перекинутые через Неву, покрытая снегом замёрзшая река, казалось, принадлежали покинутому городу. Время от времени худой солдат в сером капюшоне, женщина, закутанная в шаль, проходили вдалеке, похожие на призраков в этом молчании забытья».
А ведь ещё летом-осенью 1917 года этот город бурлил сотнями митингов, накалялся политическими страстями, переливал по своим улицам революционные толпы. Но вслед за сезоном политических гроз и ливней надвигалась суровая зима. К тому времени, когда большевики при поддержке левых эсеров и анархистов захватили власть в Петрограде, социально-экономическая разруха уже вступила в свои права и в стране, и в столице. За полгода деятельности Временного правительства цены на продовольствие выросли в среднем вчетверо, а на промышленные товары — раз в восемь. Фунт чёрного хлеба, стоивший до войны две-три копейки, в октябре 1917-го можно было купить за 12–15 копеек. Стоимость ведра керосина, потребного для освещения, подскочила с 1 рубля 70 копеек до 11 рублей, а стоимость аршина сукна — с 2 рублей аж до 40. Зарплаты росли втрое медленнее. Цена денег падала, работать за денежное жалованье никто не хотел. Заводы остановились. Городское хозяйство стремительно приходило в упадок.