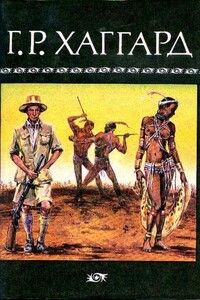Лесное море | страница 212
Прежде Виктор не решился бы сделать такой вывод. Но сейчас ему важна была только сущность вопроса. Да или нет? Никаких авторитетов и святынь! Без всякой цели и надобности он всем, что еще было в нем живого, стремился узнать правду ради нее самой, правду абсолютную и беспощадную. И, перечитывая писания апостолов, невольно задумывался, когда же они написаны, при их жизни или позднее? Сколько живших в последующие века отцов церкви и тут, как в Песне Песней, дописками стремились укрепить веру простаков?
О, как непреодолим «дух бездны», дух сомнения, о котором говорится в Откровении Иоанна Богослова. Имя этого духа по-древнееврейски Аваддон, а по-гречески Аполион.
Все, что казалось великим, утратило свое величие, потускнели образы, воспринимавшиеся когда-то со всей свежестью детских чувств. Даже муки Христовы здесь, на дне тюрьмы, после собственных мук казались уже Виктору чем-то самым обыкновенным. Он сам прошел через Голгофу. Его истязали, его казнили, он остался жив, чтобы умереть вторично. Все это не легче Голгофы, а ведь то, что он пережил, — еще не самое худшее, умирают люди и более страшной смертью.
Ты висел на кресте, Иисус, прибитый тремя гвоздями. Мелкие сухожилия рвались, толстые напрягались до невозможности. Солнце пекло, кровавый пот заливал глаза, и мука твоя была так нестерпима, что ты воззвал к богу: «Эли, Эли, лама сабахтани?». Но сильнее ли была твоя мука, чем боль, когда здоровые зубы, которыми кости можно грызть, медленно разламывали до пульпы или обдирали напильником вместе с живым нервом?
Враги твои насмехались над тобой, распятым, говоря: «Других спасал, так спаси же себя, сойди с креста, если ты и вправду сын Божий». Но ученики твои, Иисус, и твоя мать стояли у креста, и ты знал, что отец ждет тебя, что муки твои на земле — только короткий переход к вечной жизни и славе, ибо ты — бог!
А все те, кто так же страдает за грехи человечества и умирает во имя его спасения? Нет подле них на Голгофе ни матери, ни учеников, умирают они часто безымянные и даже в свой смертный час не могут воззвать: «Боже, боже, зачем ты меня оставил?» Ибо им некому жаловаться, небо для них пусто, оно — только голубой купол, немного кислорода с азотом и больше ничего. Взять хотя бы Лазо, Сергея Лазо, о котором говорил Багорный… Он отдал революции жизнь свою в двадцать с лишним лет. Что он чувствовал, когда его живьем сжигали в паровозной топке? Ведь знал же он, что уходит в никуда, что никогда и нигде в веках не повторится то необычайное мгновение, которое зовется его жизнью! Что оно все сгорит дотла ради будущих поколений.