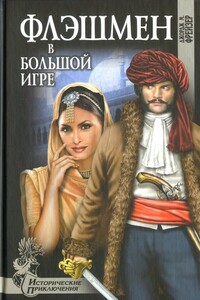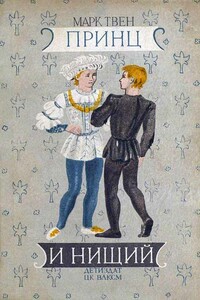Лесное море | страница 194
— В тридцать девятом, господин поручик.
— Если мне память не изменяет, то…
Поручик порылся в бумагах и вытащил пожелтевший аттестат Доманевского, весь в темных пятнах от могильной земли.
— Тот же класс. Так он — ваш одноклассник?
Под его взглядом Средницкий побледнел.
— Я с ним никогда не имел ничего общего. Притом вот уже три года я его не встречал.
— Все-таки странно, что вы его не узнали. Ну, да этим мы займемся потом. Дайте ему подписать его показания.
Средницкий начал искать что-то в папке. Руки у него тряслись. Наконец он достал заранее написанную бумагу. Видно, они были вполне уверены, что Виктор сознается, и уже все приготовили. Ему оставалось только подписью подтвердить, что он — это он и вещи, которые ему сейчас предъявили, — его вещи.
Ну, вот и все.
Он снова очутился в своей клетке, из которой обычно выводили только на казнь.
Ждал.
За ним каждую минуту могут прийти. Они теперь знают, кто он. Ему известна их тайна, и к тому же он убил двух человек, служивших им. И ему, конечно, вынесут смертный приговор — другого и быть не может. Повесят или расстреляют, а вернее всего отрубят голову. Японцы охотнее всего казнят именно так.
А если им известно, что Багорный жив? И что тот «толкай» был именно Багорный? Тогда его поведут не на казнь, а на пытки. Будут пытать, пока не вырвут у него хоть слово о советском полковнике, который так подвел их, помешав применить оружие Танака.
Отвлеченно рассуждая, Виктор предпочитал казнь. После пыток ведь все равно убьют. Но то были рассуждения чисто теоретические, остававшиеся где-то на поверхности сознания, а душа, по мере того как шло время, все больше переполнялась страхом, и все в нем, в Викторе, протестовало против небытия, против окончательного уничтожения.
Если бы его убили сразу после допроса, когда он был еще истерзан и все в нем как-то оцепенело, он встретил бы смерть как избавление. Но ему дали окрепнуть, пытали его ожиданием, душевными муками. Сознавать, что умрешь, — совсем не то, что ждать смерти.
Шаги в коридоре стали теперь чем-то невероятно важным. Они поглощали все его внимание. Он знал уже шаги надзирателя и старост, разносивших еду. Их шаги он слушал равнодушно. Всякие другие могли быть вестником смерти. И он, вслушиваясь, спрашивал себя: «Уже?»
Он не спал. А когда, измученный вконец, забывался иногда сном, сон этот был чуток и беспокоен.
Чаще всего снилась ему тайга, небо в ярком блеске солнца, майская сочная зелень. Стучали дятлы, свистели где-то рябчики, а он шел с Волчком, бодрый и свободный, углубляясь в девственные, красочные просторы лесного моря.