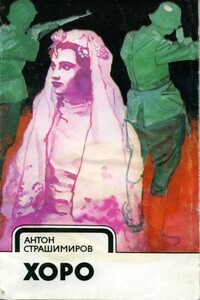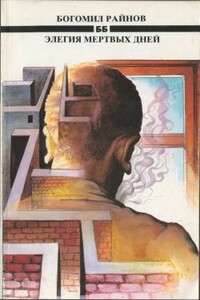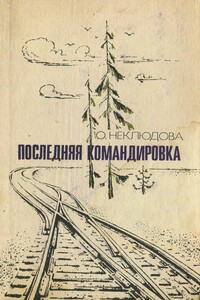Одежда — церемониальная | страница 68
И внезапно человек, который с таким сочувствием рисовал бедняков, их скромную трапезу, соломенные хижины, натюрморты из двух-трех яблок, стол и стул или просто башмаки, словно ожил передо мной. Мне показалось, что я его вижу. Я видел человека, шагающего по проселку. Видел его голубую тень, которая тащилась за ним, как сама усталость и забота, его одиночество и саднящую боль за людей. Рассказывают, что он ходил в рабочей блузе и широкополой панаме. Рукава его блузы были вечно вымазаны масляными красками, в разговоре он горячился и жестикулировал, и это производило странное впечатление на окружающих, потому что мало кто из них жил судьбой искусства.
Ван Гог приехал в Прованс в надежде создать живописную школу в содружестве с несколькими художниками, но остался в одиночестве. К нему ненадолго приехал Гоген, но дело кончилось скандалом и автопортретом Ван Гога с повязкой на ухе. Жизнь в Арле ничего ему не дала: ни школы живописи, ни денег на существование, ни спокойствия. От нее остались только картины, наброски, письма к брату Тео, — плоды до изнеможения напряженной работы, насыщенные южным солнцем и теплыми красками, которые так отличались от серо-зеленой Голландии, влажной, сырой и туманной.
Через несколько дней, уже дома, я снова вернулся к письмам художника. Я недоумевал, как можно понять их без его картин и как можно почувствовать его картины без его писем…
«Я глотаю природу», — часто говорил художник.
Он глотал ее и снова возвращал людям в виде пламени — желтого, красного и синего, цветного, насыщенного. Художник мало ел и много рисовал, мало говорил и много работал, пил слабый кофе или крепкий абсент, и в конце концов, истощенный, изнемогающий от слабости, он слег.
Он искал розовые и красно-оранжевые тона, пурпур солнца и желтое золото полей, нежный румянец цветущих персиков и лиловые тени пашни, восклицая: «Великий боже, когда мы, наконец, увидим поколение художников, крепких телом?!»
Он его так и не увидел.
И его восклицание затерялось в молчании прованского утра.
Я успел сказать себе: обо всем этом я буду читать и вспоминать позднее. Сейчас надо только стоять и смотреть. И молчать.
Первые машины уже тронулись к Марселю…
Где-то Ван Гог сказал, что, занимаясь живописью, человек до ушей вымазывается красками, зато, к счастью, не становится болтлив, как поэт. Живописец не говорит, он молчит и рисует.
Себя, солнце, людей, деревья…
Мы допили кофе.
И ресторан, и ужин сейчас показались мне некой художественной и гастрономической конфекцией для снобов: Тулуз-Лотрек и креветки, плакаты «Мулен-Руж» и рыба под соусом «минье», «Ла Гулю» и мятный ликер «Мари Бризар». Я начал жалеть, что привел сюда своих гостей…