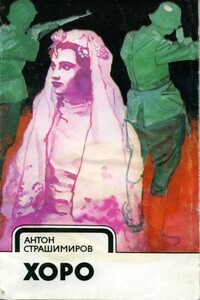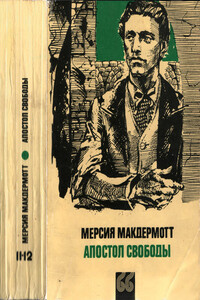Одежда — церемониальная | страница 14
Я понимал. И внезапно меня охватил стыд. Когда у меня есть деньги, я вечно трачу их на что попало. Неужели сейчас по моему лицу, помимо воли, скользнула гримаса неудовольствия, как у скупца?
Я поспешил обратиться к моим хозяевам с просьбой проводить меня на выставку. Она была расположена в небольшом зале недалеко от ярмарки. На стекле широкой витрины висела афиша: какой-то стилизованный всадник мчался прямо на зрителя. Мы вошли.
Я смотрел на картины, которые родились, вероятно, под влиянием Дьего Риверы, холодной страстности немецких экспрессионистов, обобщенных синтетических форм Пикассо.
В этих полотнах было понемногу от всего, из чего состоит современная живопись, и все же было в них нечто победное и неповторимое. Эти картины дышали мужеством, были напряжены до разрыва нервов, здесь виделись холодные кости и горячая кровь, желтые пески и танцующие скелеты, бегущие люди и объятые пламенем дома. Это были картины, в которых горел протест и тревога, слышалась душераздирающая боль и крик.
Я знакомился с художниками — их в зале было несколько человек. Помню худые и влажные пальцы, которые нервно и болезненно вздрагивали при пожатии. Казалось, что этими руками их обладатели часто закрывают глаза, чтобы никто не видел их слез. Или эти слезы уже давно высохли? И не возникало сомнений, каким должно быть их искусство. Оно могло быть только таким, которое я видел…
И снова потянулись годы. Началась вторая война Израиля против его арабских соседей. Она тоже была трагической. Новые отряды палестинских беженцев разбрелись по всему миру. Иногда я встречал среди них поэтов, студентов, художников, юристов, мужей от политики. Я знал, что сейчас интеллигенция этого народа многочисленнее, чем в Израиле. Страдания поддерживали в нем трудолюбие и стремление к знаниям. Он искал и боролся.
Прошла и третья война. Тоже трагическая. Именно в те дни мне довелось гостить на фестивале народной песни и танца, который проводился в древнем римском амфитеатре в еще более древнем городе. Я был просто зрителем спектакля. Стояла знойная летняя ночь; казалось, что луна втрое больше обычного, ее окружал оранжево-красный ореол, она мигала от света ярких прожекторов, от звонких ударов тарабуки и бешеного писка деревянных дудок. Широкая сцена прогибалась под ногами танцоров.
Танцевали черные девушки из Сенегала, стройные юноши с матовыми лицами из Мавритании. А потом пришел черед палестинской группы. Наступила тишина, и они начали танец. Это был спокойный, медленный, даже ленивый танец, который повторялся через строго отмеренные ритмические интервалы. Звучала мелодия пустыни, где переплетаются ветер и молчание, удары тарабуки и одиночество.