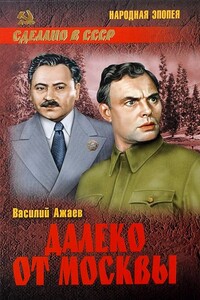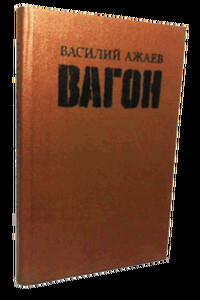Предисловие к жизни | страница 53
Лена заново переживала праздники и с удовольствием делилась впечатлениями с закадычной подругой, жалея, что та все радости прозевала.
— В центре мы выскочили из трамвая и по дороге к Гальке решили походить, погулять, посмотреть иллюминацию. Прошлись аж до Москвы-реки. Столько огней, Маринка, еще никогда не было столько огненных гирлянд, кумача и украшений! И везде огненная цифра пять, потом пять гаснет и возникает ослепительная громадная четверка. И всюду тринадцать, тринадцатая годовщина Октября. Ты как считаешь эту цифру вообще? Все ее не любят, а я считаю счастливой. Разве не здорово, что фактически с тринадцатой годовщины начался наш рабочий стаж?
Уж поздно было, а около Дома союзов множество народу — гуляют и просто стоят, смотрят. Детей почему-то множество (ведь спать пора). Всех наряднее Могэс, мне даже приснились потом могэсовские огни. То возникает сиянье, то гаснет, погружаешься в темноту, а в глазах все равно продолжает гореть и пылать. Кружится все и отсвечивается в воде, вода словно горит, то вспыхивает, то гаснет.
Но я тебе главное не сказала, слушай. — Лена понизила и без того чуть шелестящий шепот. — Мы вошли на Красную площадь, она запружена людьми, не протолкнешься. Идем, пробиваемся, к Могэсу решили выйти. Борис вдруг повернулся к Кремлю и говорит: «Что ж это мы, ребята?» — «Ты что, Борис?» — спрашивают, а я сразу поняла, о чем он. Можешь понять? Ведь сколько времени площадь была отгорожена, вся в досках, привыкли, что перестраивается Мавзолей. И мы не сразу поняли: загородки-то сняты! Новый Мавзолей стоит — каменный, гранитный, мраморный. По очертаниям такой же, как и деревянный, — и совсем другой. Прекрасный, строгий, величавый. Люди смотрят и не уходят.
Борис взял меня за руку, и я вижу — он очень волнуется. «Никогда, — говорит, — никогда не забуду! Отец меня на похороны Ильича взял, мне и десяти еще не было. Вот на этом же месте мы с ним стояли. Он плакал, как ребенок, я первый и последний раз видел, чтоб отец так плакал. И мне необыкновенно тягостно было, тоже хотелось плакать, но я не мог: был потрясен отцовским горем. Он говорил: «Сыночек, наш Ленин умер, пойми… И запомни сегодняшний день навсегда». И вдруг он ахнул, схватил меня и давай щеки растирать. Чудовищный был мороз, и у меня лицо побелело. Бьет меня по щекам, снегом трет и рыдает, не может уняться…»
Лена рассказывала еле-еле слышно и вытирала слезы, нагнувшись над столом. Марина совсем потемнела, помрачнела и тоже вытерла слезы.