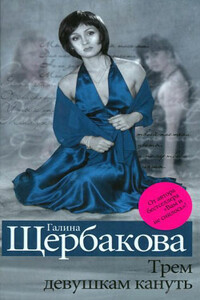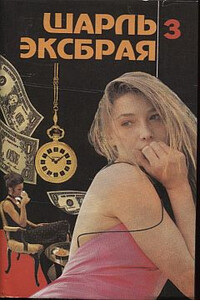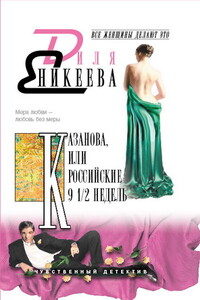Огненный кров | страница 37
Родная мать подслушала разговор и сказала: «Валяйте! Все мое поколение прошло через тюрьму. Я что, лучше других?»
— Какая тюрьма? — кричала Татьяна.
— Я буду к тебе ездить каждый день, — бормотала мать.
Но ездила, через день, Татьяна. И бабушка ей говорила:
— Ну, что печалиться, детка, если сделать из людей сволочей — главная задача коммунизма? И никто тут не лучше. Никто! Поверь и успокойся — ни-кто.
Потом родилась Варька — поменялись жильем с родителями. Теперь живут, слушая ночами Варькину музыку. И уже без вариантов. Денег на жилье для дочери у них нет. Перспектива тут одна: если они умрут. Или бабушка с дедушкой. Это не мысль, не план, не надежда. Это так — ясный след коммунизма, закаменевший в условиях капитализма. Так вот кольнет боль и стыд — и живи дальше. Или не живи. Никто никого на этом свете не держит. После тебя останутся как минимум квадраты.
— Возьми с собой папу, — сказала Татьяна совсем другим голосом и уже застыдилась своей непоследовательности. «Как дерьмо в проруби», — сказала она себе.
— Нет, — ответила мать. — Я поеду с Андре.
— Это кто? — спросила Таня рассеянно.
— Мой друг. Он ведь меня спас, когда это все случилось. Если бы не он…
Татьяне хотелось крикнуть матери, что никто ее не взрывал, а значит, и не спасал. Но она смолчала. Ее вдруг охватило предчувствие, что все это не так просто — звонок Юлии, сгоревшая когда-то родственница, бабушка в лечебнице и Андре, который уныло сидел сегодня здесь на стуле, а когда ушел, то ей захотелось выбросить стул вослед.
— С тобой поеду я.
Бабушка довольно проворно вышла им навстречу.
— Боже, Танечка! Тебе так к лицу этот лиловый шарф. За этот цвет мне досталось по морде. 22 июня сорок первого года я надела лиловое в черный горох платье, которое сшила ко дню своего рождения. Мне исполнилось двадцать семь, а твоей матери год. Я тогда была одна дома и не слушала радио, я смотрела на себя в зеркало. После твоего кормления, — она посмотрела на Веру Николаевну, — это должен был быть мой первый выход в свет. Платье изорвали в клочья мужнины родственники. Они слушали радио о начале войны, и я им, естественно, показалась радостно неприличной.
— Можно понять, — сказала Вера Николаевна.
— Что? Так и рвали на вас платье? — спросила Татьяна.
— Кто-то взял за фонарик рукава, кто-то за бант, третий за пояс. Шифон был дрек, фальшивка, не выдержал патриотизма. Советская власть ведь не прощала никому несоответствия утвержденным понятиям. И еще она ненавидела индивидуальную радость. Радостно должно быть или всем, или никому. Я это вызубрила назубок значительно раньше. Но в тот день, дура, забыла. Так жалко было платье… С чем пожаловали, девушки?