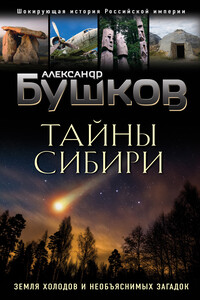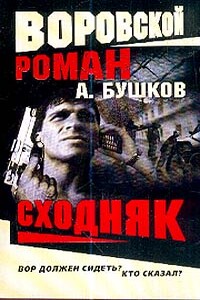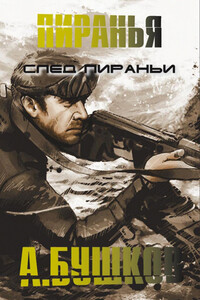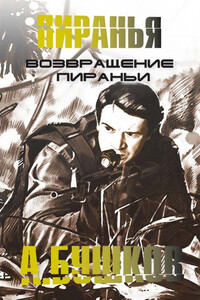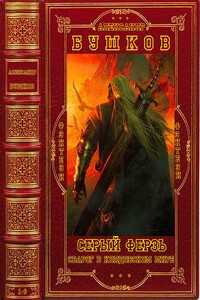Русский Шерлок Холмс | страница 34
На свистки Кулешова сбежались дворники, ночные сторожа и городовые с ближайших постов, так что свидетелей было предостаточно. Тут бы свежеиспеченным «их благородиям» угомониться, но корнету, судя по всему, окончательно вожжа попала под хвост: он выхватил саблю и рубанул Кулешова по правому бедру. После чего прибывшим на подмогу сослуживцам Кулешова пришлось, выхватив сабли, удерживать сбежавшуюся толпу: те всерьез собирались как следует начистить физиономии обоим офицерам без всякого уважения к золотым погонам…
Кулешов умер по дороге в больницу (видимо, лезвие задело бедренную артерию, и он потерял много крови). Военный суд признал офицеров «виновными в буйстве», но оба отделались, в общем, пустяками: корнет получил четыре месяца ареста и некоторые ограничения по службе, а поручик два месяца провел на гауптвахте. Пятеро детей Кулешова остались сиротами. Суд отклонил гражданский иск вдовы о выплате содержания на детей.
Правда, полиция в подобных случаях своих никогда не бросала. Всегда добивалась, чтобы Московская (в данном случае) городская дума назначала пособия семьям полицейских, погибших при выполнении служебных обязанностей, до совершеннолетия детей.
Нужно уточнить, что понятие «погиб при исполнении служебных обязанностей» могло иметь самое широкое толкование. Причиной смерти могли послужить и животные – отнюдь не бешеные собаки, как можно подумать. Бешеную собаку, в общем, нетрудно пристрелить. Суть в другом…
Пользуясь сегодняшней терминологией, городовой совмещал функции и сотрудника патрульно-постовой службы, и инспектора ГИБДД. В его обязанности входило еще и наблюдать за уличным движением: бороться с «лихачами», при необходимости регулировать движение, ликвидировать заторы – тогдашние «пробки».
(Кстати, позже, когда обер-полицмейстером Москвы был Д. Ф. Трепов, сын того Трепова, как и отец, боевой офицер, участник Русско-турецкой войны, он ввел новую форму наказания за разнообразные упущения по службе: виновных офицеров, в том числе и приравненных к полковникам приставов, отправлял регулировать уличное движение и расчищать заторы. Поскольку и то и другое считалось обязанностью нижних чинов, наказание было достаточно позорящим…)
Так вот, уличное движение… В XIX веке основным транспортным средством оставались запряженные лошадьми разнообразные экипажи. А живой «двигатель» порой может повести себя непредсказуемо. Проще говоря, лошадь может понести.
Современный горожанин, будь он даже солидного возраста и видевший лошадей сплошь и рядом только в кино, я уверен, с трудом представляет, что это за жуткое и опасное явление под названием «лошадь понесла». Автор этих строк, в детстве живший в небольшом райцентре, в те времена, когда лошадей на улицах хватало, это зрелище видел лишь единожды, но запомнил на всю жизнь…