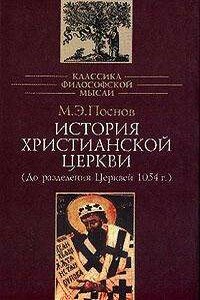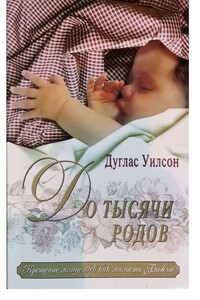Аскетизм по православно-христианскому учению. Книга первая: Критический обзор важнейшей литературы вопроса | страница 191
Если проф. Тареев утверждает, что «нет основания выводить из факта воскресения Христова оправдание нашей душевно-телесной условности» [1212] то, соглашаясь с ним, мы хотели бы добавить, что в указанном факте эта душевно-телесная условность, не исчезая, может и должна проникнуться божеским безусловным началом, которое первую одухотворит, но не уничтожит, сообщая ей новый, более совершенный вид бытия. [1213]
Таким образом, мы, расходясь с представителями разбираемого проф. Тареевым взгляда, собственно в данном пункте не вполне соглашаемся, однако, и с ним, считая правильным оттенить сущность православного учения по данному вопросу несколько с другой стороны. Если Мережковский и др. хотят обоготворить человеческое тело, человеческую плоть в ее эмпирической наличности, — со всеми ее страстями, позывами и влечениями, не проводя человека через горнило аскетизма, а прямо, как бы самовольно желая проникнуть в область мистики, то проф. Тареев имеет тенденцию вовсе отказать телу, материальному элементу человеческой природы, в возможности и способности достигнуть «обожения», общения с Богом каким бы то ни было путем, решает этот вопрос, безусловно, отрицательно.
Мы почти вполне согласны, далее, с заключительными выводами проф. Тареева относительно значения факта воскресения Христова для принципиального освещения вопроса о христианском аскетизме. По его словам, «должно избегать двух крайностей в выводах из факта воскресения Христова: языческого аскетизма, или самоумерщвления, и грубо чувственных ожиданий Иудейства. Дух христианина не есть анатомическая часть человеческого существа, для бессмертия которой требовалась бы аскетическая свобода от телесности, это есть дух божественной жизни. Но все же наше упование — воскресение не для продолжения чувственной жизни, а для жизни духовной. В христианстве нет оснований ни для пантеистического аскетизма, ни для святости плоти». [1214]
Вполне соглашаясь с первой частью его вывода, относительно второй мы должны сделать все же немаловажную оговорку. Если «дух» христианина есть «дух божественной жизни», то он не только может, но и должен проткнуть всю человеческую природу, во всей ее освященной и облагороженной целостности. Следовательно, и тело может и должно быть святым, т. е. духовным, божественным. Что же касается сущности и смысла христианского аскетизма, то настоящее освящение этого вопроса более пли менее достижимо только с точки зрения цельного существа религиозно-морального христианского учения, с которым он находится в нераздельной органической связи. Анализ одного факта воскресения Христова, хотя и в данном отношении важен, но все же, взятый в своей отдельности, недостаточен.