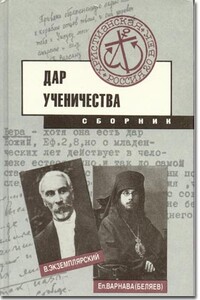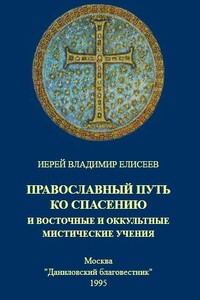Аскетизм по православно-христианскому учению. Книга первая: Критический обзор важнейшей литературы вопроса | страница 133
В живом мiровоззрении св. Отца, а также и в его творениях оба указанные течения мысли разнообразно переплетаются между собой, видоизменяются, разнообразятся, то приближаясь одно к другому, то обостряясь, как бы расходясь в разные стороны. Во всяком случае факт этой двойственности несомненен, и без выяснения его при изложении учения св. Григория всегда можно допустить существенную неточность, представивши это учение односторонне.
Этого недостатка не избежал, по нашему мнению, и г. Пономарев. Он принимает учение св. Григория Нисского без всякой проверки его источников и анализа, не разлагая его на составные элементы и не уясняя, что в нем согласно с церковно-библейским учением и что следует отнести на счет его излишнего увлечения оригенизмом и неоплатонизмом. При этом, что особенно важно, г. Пономарев иногда особенно охотно пользуется из учения св. Отца элементами именно последнего рода.
Чтобы не быть голословными, обращаемся к разбору основных положений 1-ой — антропологической — главы сочинения г. Пономарева.
Г. Пономарев справедливо придает антропологической основе громадное значение для раскрытия и выяснения аскетического мiровоззрения свв. Отцов. По его объяснению, значение антропологического момента определяется тем, что указанная основа прежде всего решает вопрос о субъективной причине аскетизма. Такой причиной является наблюдение наличного состояния человеческой природы, слагающегося из двух нача́л — доброго и злого. Истолкователем такого состояния является сознание человека. Путем анализа своего внутреннего мiра, при свете библейских данных («путем изучения Библии») человек в своей собственной природе находит принцип противоречия, характер раздвоенности, сочетание двояких элементов — «естественных» и «противоестественных». [802]
Рассуждения прекрасные! Судя по ним, мы могли бы надеяться встретить в разбираемой главе автора анализ психологических данных живого самосознания христианина или вообще человека. Однако, мы находим у автора, как он и сам проговаривается в одном месте, мысли, положения и данные, добытые собственно теоретическим путем. [803] Его мысль движется в области абстрактно-логических, догматико-метафизических данных, а не в сфере реальных, фактических переживаний и наблюдений живой человеческой души.
Отсюда формальный характер научных построений автора.
Пытаясь представить изображение человеческой природы нормальной, совершенной, с одной стороны, падшей, поврежденной — с другой, г. Пономарев и в том и в другом случае на первый план выдвигает не реальное направление нравственно-религиозной жизни, а