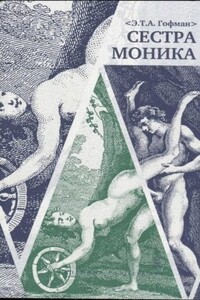Товар для Ротшильда (сборник) | страница 86
Я помню его в этой полуподвальной библиотеке — сосредоточенный паренек в вишневой вельветовой жилетке, одну за другой одолевающий тяжелые подшивки советской периодики. В одиннадцать лет! В 72‑м году! Помню, шел я в сумерках мимо читального зала, и мальчишка лет пяти, просунув голову в форточку, крикнул: «Тетя! Дядя! Дайте молока!» Чем-то меня потрясла эта выходка, но еще больше я удивился, увидев в дверях библиотеки Гарика. «Ты оценил?» — спросил он с широкой улыбкой.
Сермяга не знает, как будет по-русски «одолжить», поэтому он по-украински «позычает», точнее, требует голосом детского призрака — «позычь!» Кому охота смотреть на мир из гроба, конечно, ему позычают. Если Данченко требует денег, самое страшное это не тащить их к нему на Глиссерную. Нет. Куда страшнее его приближение за деньгами оттуда. Сермяга надвигается по диагонали — мимо гранитного обелиска, мимо бьющего из-под земли Вечного огня. Газовый факел чудом не гаснет и по сей день, полыхая посреди кладбища в самом центре города. Сермяга идет, нахлобучив островерхую шапку жреца, спрятав желтые кулаки в темно-зеленую мантилью на «молнии», замкнутой под самым горлом. За его спиною с правой стороны католический костел, давно отданный под какие-то склады, а слева — разоренная православная церковь, где читал свои стихи в 1927 году Маяковский. Он появляется из переулка, памятного своей уборной. Она уже много лет замурована щитом из гофрированного железа. И чем-то этот заслон от духов кабин и унитаза напоминает Стену Адриана, выстроенную против шотландских ведьм. Причем в двух шагах от зловещей (мало кто помнит, что в ней делали, почему ее закрыли, мало кто жив из тех, кто в нее заходил) уборной в коротком, но даже в дневное время жутковато-сумрачном переулке начинался маршрут трамвая, что бегал к переправе на Хортицу. Вагон давно пропал, истлели его шумные пассажиры. Семнадцать лет как обезлюдел пляж, хорошо видный с пристани.
Между прочим, если провести диагональ без изгибов, сермягин маршрут упирается в угол здания КГБ, в том месте, где, если верить припадочному Ящерице, сыну эстонского полицая, однажды из окна выпрыгнул священник.
И палящий ветер — их доля из чаши. Окна, через которые Данченко смотрит в мир, выходят на руины. Вторая очередь ликерки[11] мертва. Отвергнутый жизнью бетонный скелет. Под сваями, вбитыми в землю еще при Андропове, приседают собаки. К/т имени Ленина — оба в развалинах, и зимний, где была церковь, и летний. Дорога к порту сплошь в опаснейших, незаживающих рытвинах, словно от палящего ветра из глаз Сермяги гниет асфальт и распухает дробленый камень. Машины виляют, огибая их, давят, сшибают метисов, что расплодились на стройплощадке. Время от времени на столб с обкусанными проводами вешают венок, значит, под колесами пресеклась и человеческая жизнь…