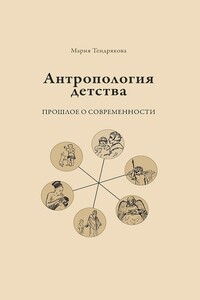Охота на ведьм. Исторический опыт интолерантности | страница 48
Свой вклад в массовые эпидемии самооговора и одержимости вносили механизмы заражения и подражания. Историки неоднократно замечали, что стоило только какой-нибудь монахине или юной девице начать биться в конвульсиях или же «облегчать душу» признаниями в любовных похождениях с Князем Тьмы, как у них находились последователи. И подтверждения тому не ограничиваются вышеназванными случаями в Лилле, Лудене, Лувьере, Экс-Провансе…
Наконец, можно предположить, что у самооговора есть еще один могучий источник вдохновения – это страх. Речь идет о постоянном страхе быть оговоренным, о страхе по чьему-то навету быть заподозренным в колдовстве и стать жертвой инквизиции.
Переживание атмосферы тотальных преследований, торжественные, организованные с расчетом на внешний эффект казни, неожиданные разоблачения известных уважаемых людей, слухи об огромном количестве скрывающихся ведьм и о невыносимых пытках – все это может вылиться в навязчивое чувство надвигающейся беды. Внутреннее напряжение при этом достигает той точки, когда правомерен вопрос: что тяжелее, беда или постоянное ожидание ее приближения?
В психологии известны случаи, когда в состоянии крайнего душевного напряжения при нервном истощении человек совершает именно тот поступок, которого всеми силами старался избежать. Известный французский психолог и психиатр Пьер Жане исследовал подобные случаи совершения «обратных действий» в связи со страхами, одолевающими меланхоликов. П. Жане называет этот феномен «инверсией действий и чувств»: «Вместо требуемого обстоятельствами действия… мы замечаем в таких случаях элементы, а иногда и полное осуществление абсолютно противоположного акта. Швейцарский автор Ш. Бодуэн… описывает в этой связи неопытного велосипедиста, поворачивающего как раз в направлении препятствия, которое он собирался объехать, а также испытывающего головокружение человека, который хочет идти прямо, а попадает в пропасть» (Жане, 1984, с. 198–199).
П. Жане, анализируя страхи своих пациентов, замечает, что «…не следует забывать, что болезнь всего лишь преувеличивает явления, свойственные каждому» (там же, 202). Тезис этот, взятый в масштабе глобального сопоставления психической нормы и патологии, весьма неоднозначен и спорен, но и забывать о нем нельзя, когда речь идет о конкретных механизмах поведения человека в стрессовых ситуациях. «Обратное действие» оказывается одним из возможных способов избавиться от навязчивых страхов и разрядить внутреннее напряжение.