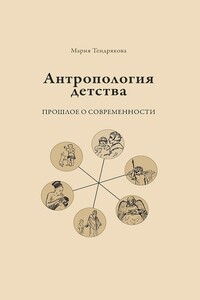Охота на ведьм. Исторический опыт интолерантности | страница 47
Страх загробных мук требовал спасения души во что бы то ни стало, даже жертвуя телом. Те, кто шел на самооговор, осознанно обрекали себя не только на мученическую смерть, но и на публичное моральное унижение. Чтобы избежать вечных мук, надо пройти эти муки здесь, на земле. Самооговор в этом контексте – один из путей очищения от скверны и спасения души.
Слова, с которыми Джейн Вейр обратилась к собравшимся со ступеней эшафота, демонстрируют то превосходство, какое дают полное покаяние и готовность предстать перед Богом: «Я вижу большую толпу людей, пришедших… глядеть на смерть бедного старого несчастного существа, но считаю, что немногие среди вас скорбят и плачут о поруганном Писании» (Роббинс, 1996, с. 85).
Самооговор как предельный или, точнее, запредельный случай раскаяния и искупления грехов, вырастающий из представлений о порочности человеческого существа, – одно из возможных, но далеко не исчерпывающих объяснений этого явления.
У истоков самооговора, как это уже было отмечено, может быть искренняя вера в свою способность причинять зло при помощи заговоров (Гуревич, 1987, с. 19). И тогда стремление к искуплению своих грехов может выступать не только как один из возможных механизмов самооговора, но и как своего рода субъективная реальность, в которой активизируются более частные социально-психологические механизмы. Это разного рода механизмы психологической защиты, включая отчуждение и персонификацию.
В самооговоре можно увидеть механизм отчуждения того мерзостного и низменного, что есть в самом себе, и персонификацию всего негативного в образах атакующих душу дьяволов: не столь я плох, сколь искушение сильно.
Также, говоря о механизмах самооговора, нельзя не учесть неосознанное стремление к самоутверждению, желание человека, влачащего жалкое существование, заявить о себе во всеуслышание, привлечь внимание (Гуревич, 1990, с. 319; Томас, 1982, с. 96). Последнее по сути можно отнести к защитным компенсаторным механизмам. Примеры такого рода поведения хорошо известны в современной юридической практике: когда какое-либо преступление получает широкую огласку, о нем говорят, пишут, им громогласно возмущаются – тут-то и появляется некто, кто претендует на роль главного преступника. Его непричастность очевидна и доказана, но он упорно твердит о своей вине и готов понести любое наказание за преступление, которого не совершал. Лишь бы о нем узнали, его услышали, возненавидели или испугались, но любым способом подтвердили факт его существования.