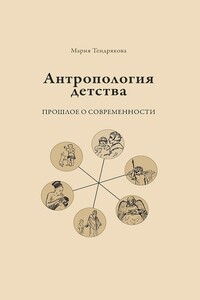Охота на ведьм. Исторический опыт интолерантности | страница 46
В одном из своих признаний судьям Т. Вейр сказал, что «если бы он не ощутил этого ужаса, терзавшего его изнутри, он едва бы поверил в существование Господа» (Роббинс, 1996, с. 84, 85–86). Это путь веры через переживание ужаса вероотступничества и расплаты за свои грехи. Глубоко верующий мечтал о грядущем рае, но постоянно ощущал «ад в себе». Ощущение порочности своих тайных помыслов и чувство вины – все это прививалось прежде всего тому, кто стремился стать праведником.
Истинно верующий, как никто другой, постоянно балансировал на грани дьявольского и божественного. Какие-либо внешние обстоятельства, потрясения могли столкнуть человека в бездну самоуничижения, обернуться самооговором и признанием своей дьявольской сути.
Возможно, в основе подобных душевных метаний лежит та самая амбивалентность чувств, имманентно присущая натуре человека, открытая З. Фрейдом и ставшая одним из краеугольных камней классического психоанализа.
Сама же идея двойственности человеческой природы и религиозных чувств задолго до З. Фрейда культивировалась в христианской теологии и активно внедрялась в сознание верующих.
«Добродетель» и «греховность» в религиозности позднего средневековья и начала Нового времени идут «рука об руку». Жизнеописания святых изобилуют сюжетами о противостоянии дьявольским искусам; образ раскаявшегося и переродившегося грешника, ставшего праведником, становится хрестоматийным. В одной из подобных легенд речь идет даже о папе римском. Будущий папа Сильвестр II (999—1003), в молодости Герберт из Орильяка, дал клятву верности демону в образе молодой красавицы Меридианы, владевшей несметными богатствами. Суккуб обещала ему деньги, тайные знания и покровительство взамен верной службы. Дав согласие, Герберт начал возвышаться, стал архиепископом Равенны, затем папой, но каждую ночь он беседовал с Меридианой и обладал ею. Согласно легенде, незадолго до кончины Сильвестр II публично признался в своих грехах и в тайной связи с суккубом (там же, с. 439).
Добровольный самооговор, без внешнего прессинга, был характерен для людей глубоко верующих. Они усваивали не только спасительные идеи христианства, его идеалы и ценности, но и его апокалиптичность. Образы вечных мук, геенны огненной и постоянных искушений оживали в их сознании. Страхи рефлексировались и представлялись наиболее отчетливо: «Если картины рая оставались смутными и непроясненными (…о небесных радостях… церковные авторы писали как о "несказанных", "невыразимых", "неимоверных" и т. п.), то картины ада и народное воображение, и живопись, и литература рисовали с большой наглядностью. Ад был намного реальнее рая»