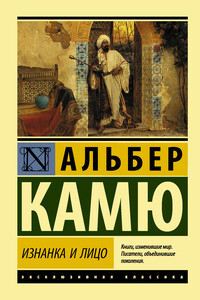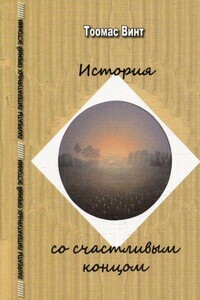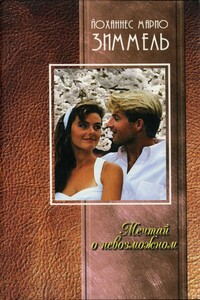Наш маленький, маленький мир | страница 81
От ребенка ничего не скроешь, особенно если людей в тесной квартирке набито как сельдей в бочке. Я живо помню, как однажды днем папа пришел домой белый как полотно, с зелеными от ярости глазами. Он был до того взволнован, что даже не мог есть.
— Ты ведь ей цену знаешь, — успокаивала его мама, — может, она и не виновата, может, она не совсем в себе.
— Я бы ее своими руками прикончил, — скрипел зубами отец, а я забилась поглубже под стол.
— Это же твоя мать!
— Какая мать? Разве она когда-нибудь была нам матерью? Мы росли, словно бурьян при дороге. Мать! Если бы не партия, я стал бы преступником! Мать! Еще что!
Я съежилась. Наверное, я не все поняла, но горькие папины слова засели в моей памяти. И я запомнила навсегда, что единственное непростительное преступление для женщины — это бросить своих детей, не заботиться о них. Такое никогда не простится.
Понять папин гнев было можно. Оказывается, бабушка накатала жалобу самому президенту, будто бедствует, хотя сын у нее — легионер. Жалобу переслали отцу на работу, и его призвали к ответу: как же так — не помогать родной матери!
Это была неправда; мама каждый месяц отдавала ей из нашего бюджета треть, дядя Венда после первых же слез совал все имеющиеся при нем деньги, а тетя Лида, святой человек, вырвала бы для нее из груди собственное сердце.
От выклянченных денег бабушке перепадало мало, ее второй муж был человек пропащий, одно слово — паршивая овца в уважаемой и зажиточной пражской семье. Эти сведения дошли до меня, когда я была еще мала и очень удивлялась, как это можно взять в мужья паршивую овцу, но рассудила, что он, наверное, превращается в овцу, ведь так бывает в сказках. Я мечтала увидеть своего неродного деда, особенно когда он превращается в паршивую овцу. Бабушку я ненавидела до глубины души, мне отвратительно было в ней все: ее слащавый голос, чересчур правильная литературная речь, изысканные выражения (вместо «дура» или «балда» она, например, говорила «человек со странностями»), был отвратителен даже ореховый торт, который она всегда приносила. Ее визиты вызывали во мне ужас — вот она приближается, открыв, объятия, и я знаю, что не смею убежать, что должна покориться и позволить прижать себя к колышущемуся студню грудей, стерпеть слюнявый поцелуй, ведь я хорошо воспитанная девочка, поэтому обслюнявленную щеку не вытираю, но едва не теряю сознания, так сильно во мне отвращение.
Иногда я угадываю, когда бабушка собирается уходить, и удираю в уборную. Запираюсь, и вытащить меня оттуда уже невозможно.