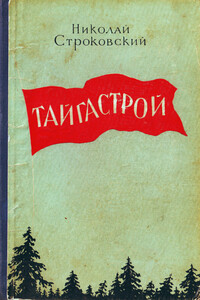Импульсивный роман | страница 25
Потом Зинаида Андреевна пела старинные и новые романсы, пела по просьбе дочерей, а сама не любила. Просила спеть, правда, одна только Томаса (Эвочка бычилась почему-то, когда мать садилась за фортепиано…), некрасивая Томаса, названная в честь дядюшки Тома, старого дядюшки Тома из незабвенной книги американской учительницы.
(Казалось бы, возненавидеть эту книгу Томасе, названной в честь старика, но ничего подобного. Толстая Томаса, или Тонечка, своим именем гордилась, а книгу и старого Тома полюбила.)
Зинаида Андреевна за фортепианами глядела не домашней мамочкой, а высокородной дамой, с которой страшно заговорить и которой восхищаешься издали. Девочки обе так думали, им обеим Зинаида Андреевна — сидящая за роялем, освещенная свечьми — казалась прекрасной. А Уленьке желалось — даже зло брало, что не получается! — чтобы по-другому чувствовала она себя во время мамочкиного пения, чтобы не вздрагивала и не восторгалась и не видела мамочку дамой, а чтобы знала наверное, что это мама, и никто другой, та самая мама, которая, если крикнешь погромче из детской, то и прибежит, и склонится к постели, и лоб пощупает, и напугается, и станет спрашивать — что с тобой, да ах что с тобой, — а Уленька еще и притворится, забормочет, застонет — и тут начнется в доме беготня с грелками, сладким питьем, вторыми одеялами. И мамочка служит ей как самая черная рабыня из глупой книжки. И каждый раз Уленька шла на голос музыки со странной своей надеждой и мечтой. Которая не свершалась.
Девочек пробовали учить пению, музыке, но ни у той, ни у другой не было ни слуха, ни голоса. И потому сами собой сошли на нет бессмысленные уроки. Учитель перестал ходить к болингеровским девочкам, и Зинаида Андреевна, свалив все неудачи на его, учителя, равнодушие и неспособности, сказала, что дочерей своих уж музыке-то научит она сама. Нет, сказала она, бездарных детей, есть бездарные учителя. После этого в доме некоторое время раздавались крики: «Со-оль! А это до-о-о! Поняли? Со-оль! До-о! Со-оль!» Потом тише стали крики, потом прекратились. И Зинаида Андреевна все реже теперь открывала фортепиано. Даже по просьбе Юлиуса. Она придумывала каждый раз все новые и все более веские отговорки, и в доме стали отвыкать от ее пения. Что очень огорчало всех, кроме Эвочки-Уленьки.
Эвочка худышка и вострушка, нервный ребенок — уж очень ее ждали, и за Зинушу боялись, и Юлиус плакал, когда наконец родилась девочка, а Зинуша плакала не после родов, а до, потому что ей казалось, что так просто быть не может, что она вдруг станет матерью и родит нормально, а не умрет в мучениях, и родит именно девочку, потому что так хочет Юлиус. Юлиус по ночам не спал и, приподнявшись на локте, часами смотрел на Зинушу. Так вот Эвочка родилась нормальной и хорошенькой, но была вострой и нервной. Ее холили, лелеяли и обожали. Для нее из ближней деревни мать Зинуши выписала няньку из потомственной семьи нянек, девушку Глафиру, неглупую, быструю, которую в доме все стали звать сразу Фируша. Эвочка же с возрастом называла няньку наедине только Фирка, потому что, повторяю, ребенком была нервным и вострым. Фире приходилось терпеть от своей воспитанницы и капризы, и откровенную злость, и щипки, и иные недобрые проказы, а вдруг — кошачью нежность, ласковость. И Фирино сердце растоплялось, и думалось ей, что Уленька ее любит, и не хотелось уходить из дома, к которому привыкла и где к ней все, кроме воспитанницы, относились ровно и благожелательно. Юлиус был вообще добр, а Зинуша не позволила бы себе кричать на подобного себе человека только из-за того, что тот ей служит. Действовала-таки книжечка американки!