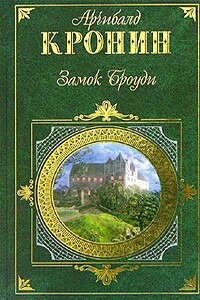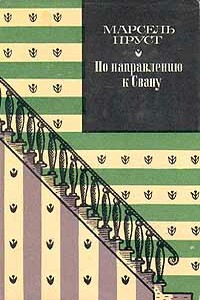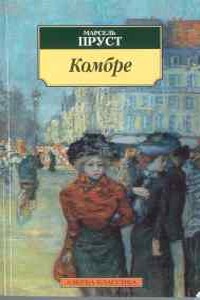Сторона Германтов | страница 106
По движениям ее рук и ног было видно, как она нервничает.
— Но, Зезетта, мне же самому неприятно. Ты выставляешь нас на посмешище этому господину, он решит, что ты делаешь ему авансы, а на вид он совершенно гнусный тип.
— А мне он, наоборот, очень нравится: во-первых, у него чудные глаза, и какие взгляды он бросает на женщин! Ясно, что женщины ему нравятся.
— Если ты такая дура, помолчи хотя бы, пока я не уйду, — вскричал Робер. — Официант, подайте мои вещи!
Я не знал, идти ли мне за ним.
— Нет, я хочу побыть один, — сказал он мне тем же тоном, каким только что говорил с любовницей: он словно на меня рассердился. Его ярость была как одна и та же музыкальная фраза, на которую в опере поются несколько реплик, в либретто совершенно разные и по смыслу, и по интонации, но объединенные одним и тем же чувством. Когда Робер ушел, его любовница подозвала Эме и принялась задавать ему вопросы. Затем она поинтересовалась, какое впечатление он на меня производит.
— Забавный у него взгляд, правда? Понимаете, мне было бы так занятно узнать, какие мысли бродят у него в голове, хотелось бы, чтобы он почаще мне прислуживал, и я рада была бы с ним куда-нибудь съездить. Только это, ничего больше. Мы же не обязаны любить всех, кто нам нравится, это было бы совершенно ужасно. Робер зря воображает себе невесть что. Я же все это проделываю только в мыслях, Роберу не о чем беспокоиться. (Она не сводила глаз с Эме.) Нет, вы посмотрите, какие у него черные глаза: хотелось бы знать, что в них таится.
Вскоре к ней подошел один из служащих и сказал, что Робер зовет ее в отдельный кабинет, который он занял, не пересекая зал, а войдя в тот же ресторан через другую дверь. Я остался один, потом Робер позвал и меня. Я увидел, что его подруга разлеглась на диване и хохочет, а он осыпает ее ласками и поцелуями. Они пили шампанское. «Эй, привет!» — говорила она ему, потому что это выражение, которое она услыхала недавно, показалось ей необычайно нежным и остроумным. Я скверно пообедал, я был не в духе, и, хотя Легранден тут был ни при чем, мне было досадно думать, что в этот первый весенний день я торчу в отдельном кабинете ресторана, а в конце концов окажусь за кулисами театра. Она посмотрела на часы, убедилась, что не опаздывает, угостила меня шампанским, протянула восточную папироску и отколола для меня розу от своего корсажа. И тогда я подумал: «Все-таки день не так уж плох; часы, которые я провел рядом с этой молодой женщиной, не пропали даром: я получил от нее изящный и не слишком дорогой подарок — розу, душистую папиросу, бокал шампанского». Так я себе говорил, потому что сомневался в их эстетической ценности и стремился оправдать эти скучные часы, доказать себе самому, что они не пропали зря. Может быть, мне бы следовало догадаться, что сами поиски оправдания, которое бы утешило меня в моей скуке, доказывали, что на самом деле никакого эстетического наслаждения я не испытал. А Робер и его подружка явно уже забыли и про недавнюю ссору, и про то, что все это происходило при мне. Об этом не упоминали, ничем не пытались объяснить ни ссору, ни стремительность перехода от нее к нынешним нежностям. Выпив вместе с ними шампанского, я чувствовал легкое опьянение, как в Ривбеле, хотя, наверно, не совсем такое же. Не только любая разновидность опьянения, начиная с того, что бывает от солнца или путешествия, и кончая тем, что бывает от усталости или вина, но и любая степень опьянения, от поверхностного до бездонного (как если бы ее можно было измерить особым лотом), на каждой определенной глубине обнаруживает в нас особого человека. Кабинет, в котором расположился Сен-Лу, был невелик, его украшало единственное зеркало, но висело оно так, что в нем словно отражалось добрых три десятка других зеркал, в бесконечной перспективе уходивших вдаль; прямо над рамой висела электрическая лампочка, и, когда вечером ее зажигали, за ней протягивалась вереница из трех десятков таких же лампочек; они, должно быть, внушали даже одинокому пьянице мысль о том, что пространство вокруг него растягивается по мере того как множатся ощущения, подхлестываемые алкоголем, и что даже замкнутый в одиночестве в этом тесном приюте, он все равно царит не над аллеей «Парижского сада»