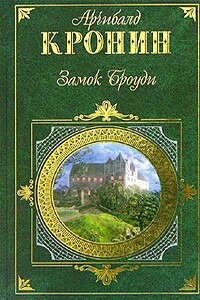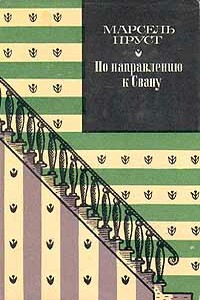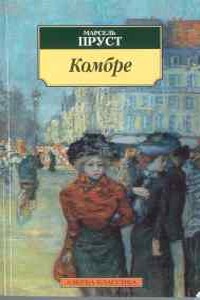Сторона Германтов | страница 107
Робер злился только на то, что мне не хотелось еще больше блеснуть перед его подружкой.
— Ну, расскажи про того господина, набитого снобизмом пополам с астрономией, которого ты встретил сегодня утром, а то я уже не помню, — и краешком глаза он посматривал на нее.
— Радость моя, да ты уже сам все и сказал, что тут добавишь?
— От тебя с ума сойдешь. Расскажи тогда про Франсуазу на Елисейских Полях, ей это страшно понравится!
— Да, конечно! Бобби при мне столько раз упоминал Франсуазу. — Она ухватила Сен-Лу за подбородок и, поскольку не умела придумать ничего нового, повторила, повернув его лицо к свету: «Эй, привет!»
С тех пор как актеры перестали быть для меня исключительно людьми, которые благодаря игре и манере произносить слова делятся с нами художественной правдой, они интересовали меня сами по себе; мне было занятно, словно передо мной мелькали персонажи старинного комического романа[78], когда я видел, как в зал входит новое лицо, какой-нибудь молодой аристократ, и вот уже инженю на сцене выслушивает признание первого любовника как-то рассеянно, а тот, ураганным огнем выпаливая любовную тираду, успевает метать пламенные взгляды на старую даму в соседней ложе, пораженный ее великолепными жемчугами; вот так, главным образом благодаря рассказам Сен-Лу о личной жизни артистов, я видел, как под покровом звучавшей пьесы, посредственной, но, впрочем, тоже для меня интересной, они разыгрывают другую пьесу, немую и выразительную; я чувствовал, как от слияния с лицом актера другого лица, картонного, разрисованного, от слияния с его душой слов роли рождаются, зреют и на час расцветают при свете рампы эфемерные и живые создания — персонажи еще одной обольстительной пьесы, и мы их любим, жалеем, восхищаемся ими, хотели бы встретиться с ними еще, когда уходим из театра, но они уже распались: отдельно актер, утративший значение, которое придавала ему пьеса, отдельно текст, не являющий нам больше лица актера, отдельно цветная пудра, которую стирают носовым платком; словом, персонажи вновь стали элементами, ни в чем не похожими на эти создания, растворившиеся сразу после спектакля, и их исчезновение, как кончина любимого человека, заставляет усомниться в реальности нашего я и задуматься о тайне смерти.