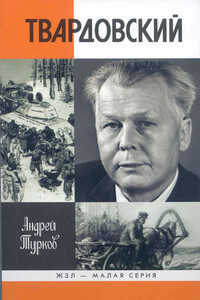Что было на веку... Странички воспоминаний | страница 44
Для студентов же военных лет и фронтовиков она была душой института — горячей, отзывчивой, энергичной.
«Я уверен, — писал ей Борис Слуцкий, — что когда-нибудь мы все поблагодарим тебя... за все, что ты сделала для института».
Боюсь, впрочем, что мы остались перед ней в долгу. И не только в этом отношении: она-то наши письма сохранила, а мы?.. Конечно, в ту пору вроде не до них было. «Но все же, все же, все же...», — как сказано у Твардовского.
И лежит сейчас передо мной одна только изрядно помятая и потрепанная в пресловутом «вещмешке» (солдатском «сидоре» тож) книжечка, а вернее, как гласит подзаголовок ее, «тетрадь стихов студентов Литературного института Союза Советских писателей» — «Друзьям» (Москва, 1943).
...Каким счастливым событием была для фронтовиков нежданная встреча с однокашниками на причудливых путях войны, как мечтали они собраться вместе после победы!
«В ночь на сорок четвертый мы все выпьем вместе», — пишет Борис Лебский в своем письме, оказавшемся последним.
Не знаю, кому принадлежала мысль выпустить книжку, которая стала как бы «заочной» встречей такого рода, но думаю, что без Славы Владимировны тут не обошлось. В самом конце книжки, в последних ее строках, скромно обозначен состав редколлегии: Г.С. Федосеев, Л.И. Тимофеев, С.В. Щирина. Отнюдь не желая умалять вклад, сделанный тогдашним директором института Гавриилом Сергеевичем Федосеевым или Леонидом Ивановичем Тимофеевым, можно безошибочно угадать, кто собирал для книги стихи и хлопотал об ее издании (легкое ли дело в тогдашней Москве!).
Этот «первомайский подарок фронтовикам», — как сказано на титульной странице, — был разослан весной и доставил адресатам радость почти «свидания» друг с другом, «переклички старой институтской гвардии», как выразился Сергей Наровчатов, — и между собой, и с молоденькими «новобранцами» поэзии».«...Знаем, что после всего пережитого, — писал однажды Славе Владимирвне Александр Яшин, — будем богаты на всю жизнь».
Богаты ощущением живой причастности к народной судьбе в ее трагические и торжественные часы, богаты неисчислимым запасом всевозможных впечатлений и наблюдений, коротких встреч и прочных дружб, на которые были так щедры «сороковые, роковые» годы
Есть у Наровчатова примечательное стихотворение:
Не будет ничего тошнее,
Живи еще хоть сотню лет,
Чем эта мокрая траншея,
Чем этот серенький рассвет.
Стою в намокшей плащ-палатке,
Надвинув каску на глаза,
Ругая всласть и без оглядки