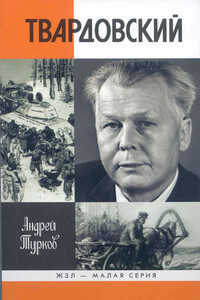Что было на веку... Странички воспоминаний | страница 45
Все то, что можно и нельзя.
Сегодня лопнуло терпенье,
Осточертел проклятый дождь, —
Пока подымут в наступленье,
До ручки, кажется, дойдешь.
Ведь как-никак мы в сорок пятом,
Победа — вот она! Видна!
Выходит срок служить солдатам,
А лишь окончится война,
Тогда — то, главное, случится!
И мне, мальчишке, невдомек,
Что ничего не приключится,
Чего б я лучше делать смог.
Что ни главнее, ни важнее
Я не увижу в сотню лет,
Чем эта мокрая траншея,
Чем этот серенький рассвет.
Расслышит ли в этих стихах нынешний, нового поколения читатель не только законную гордость важностью совершенного в войну, но и явственную горечь, что «то, главное», предвкушаемое, чаемое — не сбылось?
Те недавние солдаты, которые в первые мирные годы шумно и весело обживали институтские аудитории, и думать не думали, что они совсем еще не отвоевались, как им тогда казалось.
Пусть их самих еще не накрыл залп «исторических» постановлений, но официозной критикой уже хорошо была пристреляна та дорога, та проблематика, к которой вчерашние фронтовики, естественно, тяготели.
«В каждом из нас, — скажет лет тридцать спустя Григорий Бакланов, —хранилось то единственное, что мы действительно знали так, как не будут знать последующие поколения... Мы несли его в себе».
Было, было, о чем рассказать!.. Но уже громили повесть Казакевича «Двое в степи», душили песню Исаковского «Враги сожгли родную хату», объявляли «фальшивой прозой» фронтовые записки Твардовского «Родина и чужбина» и пеняли ему за «жестокую память» о множестве погибших...
И уже как-то поперхнулись иные из молодых поэтов, обескураженные упреками в «субъективизме» и настоятельными требованиями переходить на иную, мирную тематику.
Правда, новый студенческий народец, часто еще не успевший снять гимнастерку с сапогами, был тертый, обстрелянный, глядевший смерти в глаза. Вытянуться по команде смирно не спешил. Даже ершился.
Герой обороны Одессы Григорий Поженян, попавший в космополиты (еврей же!), стал возражать против своего исключения из института и, когда разгневанный Гладков возопил, чтоб и ноги его в институте не было, «послушно» встал на руки и так проследовал к дверям директорского кабинета. Поступок, вошедший в неписанную историю нашей альма-матер!
Лева Устинов, известный в будущем детский драматург, похвалил «Двое в степи» на семинаре и продолжал стоять на своем даже тогда, когда казакевичевскую повесть разнесла «сама» «Правда». — И пошла писать губерния! Надвигалось партсобрание с пресловутыми «оргвыводами». И никто иной, как новый директор — В.С. Сидорин, сменивший Гладкова, потихоньку присоветовал «ослушнику» на время исчезнуть из Москвы.