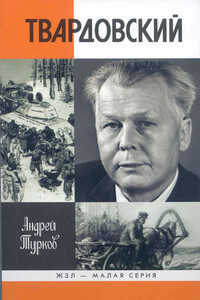Что было на веку... Странички воспоминаний | страница 43
Солоно же приходилось в этой обстановке подлинному цвету профессуры! Реформатского шпыняли за приверженность к «буржуазному» методу в языкознании и даже заставляли каяться в грехах (Его коллеге и другу Винокуру «повезло»: успел к этому времени умереть). Александру Леонидовичу Слонимскому запретили вести популярный у студентов спецкурс по «опальному» Достоевскому. Уже нам оставалось довольствоваться его лекциями по русской литературе «золотого» XIX века и более «невинным» семинаром — по драматургии Островского.
Хорошо помню, как А.Л. огорчался, когда в наших докладах (в моем тоже) проявлялась излишняя «социологичность», и темпераментно высмеивал ее, взывая к нашей молодости и способности живо чувствовать простую поэзию бытия.
Не скрою: мне приятно, что лет десять спустя, уже незадолго до смерти Слонимского, я сумел хоть в малой мере воздать ему должное в «новомирской» (одной из немногих) рецензии на его книгу о Пушкине. А.Л. трогательно благодарил. Нанести же ему визит я так и не удосужился. Меа сulра...
На подозрении у начальства был преподававший логику философ Валентин Фердинандович Асмус, почитатель и друг Пастернака, в то же время одним из первых оценивший и поддержавший молодого Твардовского. Не особенно жаловали и очаровательного Сергея Михайловича Бонди, замечательнейшего пушкиниста. Характерен форменный анекдот, случившийся, правда, в другом, педагогическом институте, где С.М. тоже преподавал. Звонит он радостно тамошнему декану: «Иван Иванович, извините, я сегодня не приду на лекцию: у меня родилась дочь!» — «Очень жаль», — слышит в ответ «нарушитель трудовой дисциплины».
Вернусь к С.В. Щириной, в пору войны занимавшей в институте совершенно особое место. Руководила она всего-навсего семинаром по марксизму-ленинизму, страстно отдаваясь этому предмету. Но ее роль в нашей жизни определялась не этим.
Тридцать с лишним лет назад, при публикации в журнале писем фронтовиков в институт, я писал: «...Пора сказать о той, кому в большинстве случаев эти послания адресованы. О той, чьими руками снова восстанавливались оборванные войной, разлукой, оккупацией, переездами дружеские связи и даже более нежные привязанности. О той, наконец, которая в пору, когда безвозвратно исчезало множество ценнейших документов, бережно, до самой смерти (осенью 1968) сохраняла свой удивительный и трогательный архив.
Для послевоенного студенчества Слава Владимировна или, как ее часто именуют в письмах, Слава была просто строгим, но доброжелательным преподавателем... «Фольклор» этой поры даже по-своему «увековечил» ее в шутливых описаниях традиционных «поединков» студента с экзаменатором: «Пускай у Славы практика — зато у нас своя!»