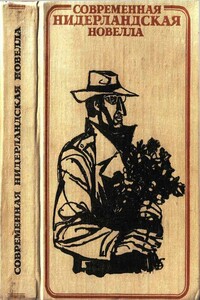Дитя да Винчи | страница 25
Я тоже хоть и был преисполнен почтения к тому, кто дал мне жизнь, рос бунтарем. Держать меня, холерика от природы, в послушании — таково было твердое намерение отца. Проявлять непослушание — таков был мой выбор, мой рыцарский долг в отношении некого воображаемого мною ордена. Отец держал меня в строгости. Я же отличался неслыханной дерзостью. Однажды во время второго завтрака, когда я вызывающе вел себя и дерзил, терпение его лопнуло, и он запустил в меня бокалом. Я пригнулся, бокал пролетел мимо меня и угодил в горку за моей спиной, набитую ценными безделушками. Я тогда, еще по глупости, обрадовался. Мне было невдомек, какую важность придавал вопросу воспитания Леонардо и что по этому поводу написал Тосканец в шестьдесят седьмом томе Атлантического кодекса, сопроводив свои воззрения следующим комментарием: «Басня сия предназначена для тех, с кем приключилось несчастье — они не наказывают своих детей». Обдумывая поступок Людовика XI, у которого достало редкой смелости восстать против своего родителя, я был озадачен, одновременно завороженный его способностью обойтись без почтения к старшим, осуждая его. Я вовсе не испытывал желания быть способным на подобное злодеяние, к тому же не оставшееся без последствий: оно привело строптивого королевского отпрыска к заклятому врагу династии — герцогу Бургундскому — и обрекло его на унизительное изгнание.
Его доверенное лицо «Этьен Лелу» внушал нам, детям, такой страх оттого, что мы понимали: этот человек способен на все. Да к тому же от самого слова Лу[25] дрожь пробирала. Волки же просто созданы для того, чтобы приглядывать за детьми и принуждать их к послушанию. Наличие их в окружающем мире уже само по себе должно было остепенить нас, а их протяжный вой в ночи — заставить примолкнуть и затаиться. К тому же нам дали понять, что в сумерки, в тот час, который именуется «между собакой и волком», появляются некие страшные существа — оборотни, вторгающиеся в наше ночное забытье и попирающие его своими легкими шагами.
Когда мама заводила разговор о волках, Мадмуазель Вот сидела, прикусив язык, но по ее вытаращенным глазам я чувствовал: уж кому-кому, а ей есть что сказать по этому поводу. Кто обучил ее постоянному молчанию? Кто загасил ее натуру, превратив в кадильницу? Кто ее укротил, унизил, пригнул к земле? Порой у нее вырывались жалобы и обрывки фраз типа: «Психиатры посоветовали мне», «Меня отдали священникам», а то и какие-то странные выражения, лишенные всякого смысла, но свидетельствующие о том, насколько она зависима и несчастна. Вид у нее всегда был растерянный, и я задавался вопросом: «В своем ли она уме?» Она производила впечатление человека, откуда-то или от чего-то сбежавшего, вырвавшегося из плена, казалась чем-то глубоко потрясенной и наконец-то свободной. Держалась она за счет внутренней одержимости, составными частями которой были страстная любовь к лесу, привязанность к детям и упорный, безрассудный поиск следов.