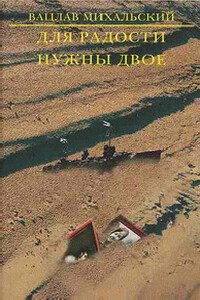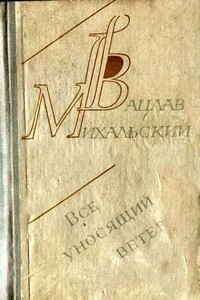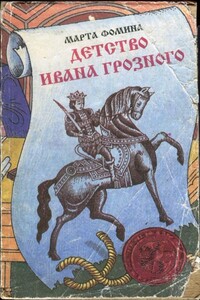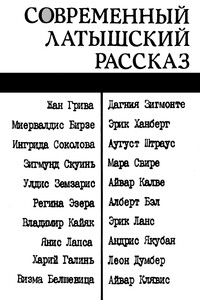Мир тесен | страница 37
Оля молчала.
— Христа ради, прости! — тетя Катя рухнула вдруг перед Олей на колени, ловя и целуя её руки.
— Встаньте! — Оля вскочила с дивана. — Встаньте.
Старуха поползла к ней на коленях.
— Прости, тогда поднимусь.
Оля затравленно пятилась к двери.
Раздавив валявшуюся на полу ампулу, старуха порезала руку.
— Встаньте, ради бога, встаньте! — схватила её за плечи Оля. — Смотрите, у вас кровь идет! Тут грязно, заражение будет!
— Прости, тогда встану, — боднула головой тетя Катя, и что-то по-детски упрямое было во всем её облике, в её слезах, в красном напряженном лице, в том, как она высосала кровь из ранки на руке и тут же выплюнула её, как мальчишка.
В необъяснимом порыве Оля прижала голову старухи к своей груди и поцеловала её, и рассмеялась.
— Ты чего? Спятила? Надо же! — озадаченно спросила тётя Катя.
Оле и самой показался диким её неизвестно почему вырвавшийся смех.
— Я сама не знаю, что со мной, — она снова прижалась к старухе, помогая ей встать.
— Значит, простила?
— Да, да… И вы меня простите…
— Ну и слава богу! А теперь пойдем ко мне, ишь, какая ты вся зябкая. А у меня печка топится — теплынь! Оладушек напеку, варенье у меня малиновое есть, чаёк свежий заварим.
Тётя Катя ввела Олю в свою комнату. В два ослепительно белых кружевных окна светило радужное зимнее солнце, цветы на окнах были ярко-зелёные, и цвели они какими-то сказочно розовыми колокольчиками. На малиновой от жарко горящего угля плите шумел голубой, без единого пятнышка чайник. Блестел пол, отражая перевернутым этот маленький уютный мир. Через всю комнату, как лента цветочного луга, протянулась самотканая дорожка. На неё даже боязно ступить ногой.
— Как у вас хорошо!
— Садись на диван, а я сейчас оладушек напеку. У меня поживешь, вдвоем веселее, и ночью не так страшно, а то я последние ночи извелась: только глаза закрою — покойницу вижу, стоны её слышу, всё она меня упрекает. Надо же!.. Каюсь, Оленька, каюсь! Я ведь не зловредная какая. Одна, как перст, заболею — стакана воды некому подать. Я к тебе давно присматриваюсь, давно поняла, что ты за человек. Ты верь мне, я к тебе всей душой. Потеплеет — и в твоей комнате чистоту наведём. Ведь мы теперь с тобой ребёночка ожидаем, а дитё чистоту любит. Чепчики там пошьём, распашонки. Вон теперь мануфактуры сколько — завались: надо же, штапель никто не берёт! Соски в аптеке я видела, запасёмся, они не всегда бывают.
Оля заплакала.
— Ты ложись, ложись, деточка, на диван. На тебе мой пуховый платок, поплачь — это душу облегчает. Я вот, как мою доченьку в сорок четвертом на фронте убило, под Тарнополем, — её тоже Оленькой звали, а мы с отцом её Лёлей называли, сестрою она была медицинской на фронте, как похоронку прочла, так и окаменела. Да так каменной больше года и проходила, а потом ночью, во сне, заплакала: приснилось будто она ожила. Просыпаюсь — вся подушка в слезах… я уж голосила, голосила. И с тех пор будто легче стало. Девчонка была, как ты — девятнадцать лет… А тебя я с работы сниму, — добавила она, громко всхлипнув и высморкавшись, — не твоя это работа, тем более ты в положении. Проживём. У меня запасец есть, да и пенсию я подходящую получаю: сорок лет оттрубила. Я тебя куда-нибудь кассиршей или весовщицей устрою. Ты ножки, ножки прикрой, вон они у тебя, как ледышки, надо же!..