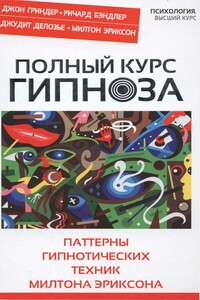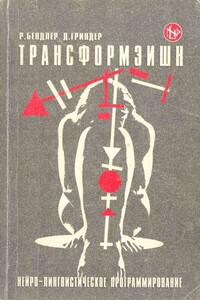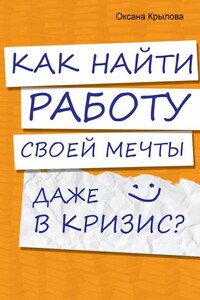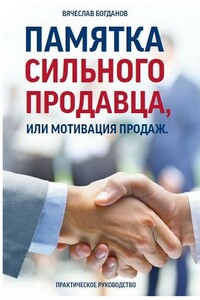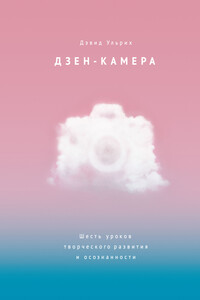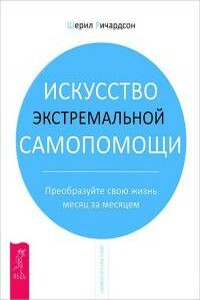Шепот на ветру | страница 45
И, разумеется, мы предлагаем окончательное погребение наименования истина.
Примечания к Главе 1 Части I
Читатель, знакомый с литературой НЛП, узнает здесь (под названием ПД) то, что мы исторически обозначали в НЛП как «четверку» – это наименование было определенно неприятно для читателей, не занимавшихся теорией автоматов.
В самом деле, иллюзия определяется как различие между нашим сенсорным восприятием некоторого аспекта мира и доказуемыми данными эпистемологически привилегированной деятельности, такой как инструментальное наблюдение и измерение.
Это версия классического эксперимента Густава Фехнера, лейпцигского физика, который формулировал приведенную в тексте закономерность – постоянное отношение разностей между весами, определенными специальными эпистемологическими операциями (взвешиванием с помощью стандартного прибора, весов с пружинной шкалой), и человеческими ощущениями. Интенсивность ощущения пропорциональна логарифму стимула. Он назвал это законом Вебера, по имени более раннего исследователя, детально изучившего этот вопрос, но без формализации указанного отношения. Формулировка закона Вебера, данная Фехнером, предшествует этой книге на 150 лет.
Исключением является множество инструментальных наблюдений и измерений. Они имеют особый эпистемологический статус, поскольку не подвергаются тому же множеству неврологических преобразований, как все прямые наблюдения и непосредственный опыт. Эта точка зрения более подробно развивается в книге: RedTailМath: эпистемология повседневной жизни (предварительное название), Гриндер и Бостик, 2002.
Мы знаем, что с помощью дисциплины, тренировки и, возможно, использования гипнотических паттернов можно влиять на части физиологии, находящиеся на уровне, заведомо предшествующем ПД. Этот предмет, конечно, выходит за пределы нашей книги.
В изложении Кожибского есть неясность, относится ли его понятие территории к тому, что мы здесь называем ПД, или к самому подлинному миру. Более общее различие между неврологическими преобразованиями и лингвистическими преобразованиями, которое мы здесь проводим, не зависит от понимания текста Кожибского.
Единственное исключение составляют ономатопоэтические термины, такие как «шлёп», в которых звуковая последовательность, по крайней мере отчасти, является слуховым отображением события, которое они называют. Иными словами, «шлёп» звучит как обозначаемое этим словом событие.
Например, носители японского языка, по-видимому, воспринимают западную музыку таким же способом, как повторяющиеся механические шумы. В книге Цунода