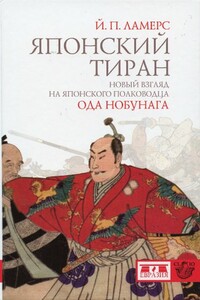Княжество Тверское (1247–1485 гг.) | страница 59
Послание, в котором Нифонт вел речь об обвинениях против Петра, было адресовано «великому князю Михаилу всея Руси»[401]. М. Дьяконов делает из этого вывод, что Михаил возвысил свои политические притязания вплоть до титула, равного титулу митрополита («митрополит Киевский и всея Руси»), как это позднее сделали и великие князья московские[402]. Следуя М. Дьякову, нужно предположить, что патриарх Нифонт титуловал великого князя в своем обращении не произвольно, а с учетом титула, принятого самим Михаилом.
В одном греческом источнике, исторических выдержках из трудов современника императора Андроника II Палеолога (1232–1327 гг.) Максима Плануды, сказано даже, что Михаил Ярославич в качестве «Basileus ton Rhos»[403] направил посольство к византийскому императору[404]. Не ясно, впрочем, какое русское обозначение было переведено здесь византийским императорским титулом. В выдержках из Плануды употребляется, впрочем, и титул более низкого ранга «Archon ton Rhos»[405] (господин, князь росов). Как отметил в этой связи В. Водов, употребление царского титула лишь в одном случае в контексте может быть понято как указание на низкое положение великого князя за императорским столом (конечно, речь может идти лишь о фиктивном положении по причине личного отсутствия великого князя в Константинополе)[406].
В третьем источнике, «Написании» монаха Акиндина, схожая претензия на более высокий ранг хотя и не выдвигается самим великим князем, но все же увязывается с ним: Акиндин обращается
«(к) Богом сохраненному и благочестивому и благочестия держателю, великому князю Михаилу и честному самодержцу русского на столования»[407].
Акиндин пишет Михаилу Ярославичу:
«(Ты) царь, господине князь, в своей земли…»[408].
Монах сближает тем самым положение Михаила с положением византийского императора. Это и не удивительно, поскольку цель Акиндина — добиться низложения Петра: право надзора светского властелина над церковью принадлежало к традиционным элементам византийской государственной идеологии[409]. После переяславского съезда уже нельзя было ожидать принятия мер против Петра со стороны патриарха, поэтому оставался лишь один путь, на который и указывал Акиндин. Последняя из цитированных формулировок поразительным образом схожа с притязанием «rex est imperator in regno suo»[410], выдвигаемым западноевропейскими королями против претензий на верховную власть со стороны императоров Священной Римской империи еще со времен Генриха II Английского (1154–1189 гг.)