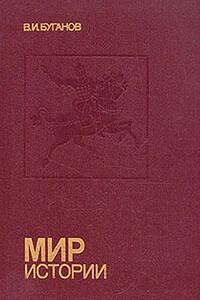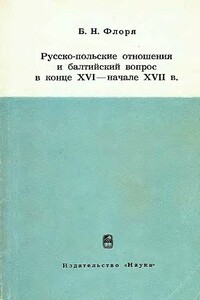Куликовская битва. Сборник статей | страница 84
Показательными для этой повой тактики Орды было ее тогдашнее отношение к русской церкви, в частности поддержка практики «расщепления» русской митрополии. Если сохранение единой митрополии всея Руси могло содействовать чрезмерному усилению одного из великих княжений, то расщепление русской митрополии должно было придавать особую остроту их соперничеству, а вместе с тем обеспечивать необходимое Орде равновесие между ними. Эти тактические соображения ордынской дипломатии хорошо учитывал князь Ольгерд, глава Литовско-Русского государства; он учитывал их в те годы, когда добился создания особой литовско-русской митрополии для своего ставленника — митрополита Романа (1354–1361).
Он хорошо понимал значение ордынской тактики в отношении русской церкви и в тот период, когда он потребовал в Константинополе не просто восстановления литовско-русской митрополии, существовавшей при Романе, но и подчинения ей тех русских епархий, которые находились далеко от Литвы, но зато близко от Ордынской державы, — он потребовал, как известно, в 1371 г. подчинения предполагаемому литовско-русскому митрополиту Нижнего Новгорода, а также такого далеко выдвинутого на юго-восток пункта, как Новосиль[460]. Но, сколь ни изощренными оказывались тактические приемы ордынских политиков на восточноевропейских землях, им все труднее было контролировать политическую жизнь как в Восточной Европе, так и на территории самой Ордынской державы.
Происходившая в 40–60-х годах XIV в. интенсификация процессов феодальной концентрации в Восточной Европе и осуществляемое на этой основе дальнейшее утверждение двух мощных государственных образований в этом регионе совпали по времени с ослаблением политического потенциала самой Ордынской державы, с усилением тенденций ее распада на отдельные улусы, с обострением династической борьбы и т. д. Хотя политическая жизнь Ордынской державы от смерти Джанибека (1357) до воцарения Тохтамыша (1381) характеризовалась усилением борьбы центробежных и центростремительных сил, равнодействующая этой борьбы складывалась все же в пользу сохранения относительной целостности Орды, отражением чего явилась деятельность известного ордынского правителя Мамая, оказавшегося способным, несмотря на все трудности внутриполитической жизни Орды, осуществлять довольно активную и даже наступательную политику в отношении восточноевропейских стран.
Тем не менее как ход событий в Орде, так и развитие восточноевропейских государств в 60–70-х годах XIV в. создавали во многом новую расстановку сил в Восточной Европе, обусловливали сложение новых политических отношений между Ордой, Московской Русью и Литовско-Русским государством. Это были годы, когда усилившееся Владимирское княжение пыталось расшатать власть Ордынской державы в Восточной Европе, стремилось нарушить в свою пользу то равновесие между Москвой и Вильно, поддерживая которое, ордынские правители сохраняли контроль над восточноевропейскими странами. Надо признать, что Владимирское княжение особенно много добилось на этом пути в 70-е годы XIV в., когда князь московский и владимирский Дмитрий Иванович отказался выплачивать дань Орде в прежних размерах, когда явно вопреки воле ордынских правителей стал интенсивно расширять фронт русских княжеств, готовых вести борьбу как против самой Ордынской державы, так и против ее союзников в Восточной Европе, в частности против Великого княжества Литовского и Твери. Масштабы этого нового объединения русских княжеств были продемонстрированы во время похода князя Дмитрия на Тверь в 1375 г.