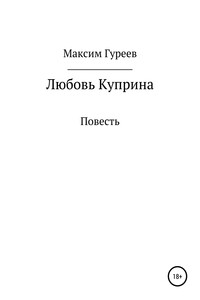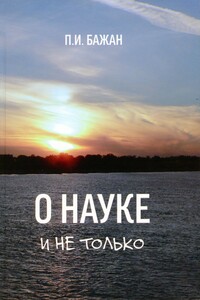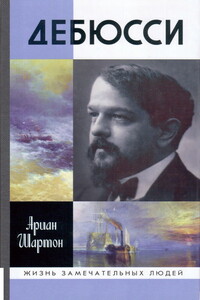Иосиф Бродский. Жить между двумя островами | страница 160
Итак, отношения закончились ровно тогда, когда стало ясно, что план, придуманный молодыми людьми, провалился.
И наступило отчаяние.
Это когда…
Мысль занимает рассудок, как шестую часть
суши рваниной туч накрывает лето,
и хочется в их соучастии – мысли и тучи – пропасть
без вести и отмереть рудиментом. Насилу где-то
что-то случается, но ухом не поведя
и не моргнув лишившимся блеска глазом,
я занимаюсь тем, чем, когда провода гудят,
занимаются камень или сапог – независимо, оба сразу…
Отчаяние как разуверение в том, во что уверовал совершенно и безгранично, нарисовал в воображении картины удивительного будущего, но вдруг стало ясно, что все это лишь фикция, и ничего этого нет на самом деле. По крайней мере так описал это состояние в своем одноименном романе Набоков.
Тогда, в мае 72-го, надо думать, отчаяние испытали и он, и она.
Он, потому что мечта, казавшаяся реальностью, рассыпалась, разбилась вдребезги, потому что выяснилось, что тебя переиграли как школьника, а подобного рода затеи, безусловно, являются игрой, причем, весьма сомнительного свойства с чрезвычайно серьезным и опасным соперником.
Она, потому что все оказалось до крайности банально и даже пошло.
Это была та самая пошлость, описанная Антоном Чеховым, которого Кэрол, как настоящий славист, конечно же читала и любила. Ей попользовались и бросили, а сказанные накануне слова, явленные чувства и обещания не значили ровным счетом ничего.
Иначе говоря, оказались ложью.
В книге Аркадия Львовича Львова (1927 г.р.) «О Бродском» читаем такие слова: «С чего начинается подлинная история сознания индивидуума? Начинается, постулирует Бродский, с первой лжи. Конечно, и до первой лжи сознание индивидуума проделало какую-то дорогу, но это еще не подлинная его история, это еще предыстория. А в тот день, когда человек солгал и впервые осознал, что солгал, начинается действительная биография сознания.
Первая ложь Иосифа, когда он еще был семилетним Осей, навсегда сохранилась в его памяти. В школьной библиотеке, куда он, первоклассник, пришел записываться, полагалось заполнить читательскую карточку. Передадим эпизод словами самого Бродского: “Пятый пункт был, разумеется, “национальность”. Семи лет от роду, я отлично знал, что я еврей, но сказал библиотекарше, что не знаю. Подозрительно оживившись, она предложила мне сходить домой и спросить у родителей. В эту библиотеку я больше не вернулся, хотя стал читателем многих других, где были такие же карточки. Я не стыдился того, что я еврей, и не боялся сознаться в этом”. Почему же Ося не вернулся в библиотеку, где сказал неправду библиотекарше? Не потому ли, что стыдно было перед библиотекаршей? Нет, не потому. Хотя у Оси и было чувство стыда, но стыда совершенно иного рода. “Я стыдился, – говорит Бродский, – самого слова “еврей”, независимо от нюансов его содержания”.