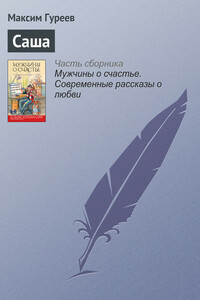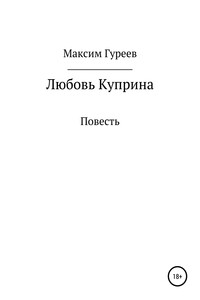Иосиф Бродский. Жить между двумя островами | страница 159
Опять же следует понимать, что неуклонный рост русской литературно-художественной диаспоры (если возможно такое словосочетание) в Европе и Америке требовал от «комитета» повышенной активности, а также поиска новых форм и новых персонажей на местах для решения продиктованных внешнеполитическим курсом СССР задач.
Андрей Синявский, Виктор Некрасов, Александр Солженицын, Владимир Максимов, Юлий Даниэль, Наталья Горбаневская, Вадим Делоне, Александр Галич, Анатолий Кузнецов, Саша Соколов, Эдуард Лимонов, Лев Копелев, Наум Коржавин, Юз Алешковский, Георгий Владимов, Владимир Войнович, Борис Хазанов, Александр Зиновьев, Юрий Мамлеев, Василий Аксенов, Сергей Довлатов, Анатолий Гладилин… Перед нами далеко не полный список бывших советских писателей, поэтов и журналистов, покинувших СССР в 70-х годах и сформировавших в англоязычной среде абсолютно уникальное русское литературное сообщество со своими журналами, издательствами и, самое главное, со своим читателем. Разумеется, советская пропаганда представляла каждого из них предателем и отщепенцем, что погнался за «длинным рублем» (долларом) и покинул свою Родину в поисках выгоды и сомнительной славы.
Однако невозможно было не согласиться с тем, что порой тексты, публиковавшиеся в «Посеве» и «Континенте», в «Ардисе» и в «Имка-Пресс» не уступали, а порой и превосходили по качеству, глубине и оригинальности тексты, выходившие в «Новом мире» и «Октябре», в «Советском писателе» и «Молодой гвардии». И наоборот, публикации в «Дружбе народов» и «Даугаве», «Сибирских огнях» и «Знамени» обращали на себя внимание далеко за пределами Союза.
Писатели-эмигранты и писатели страны-метрополии (СССР в данном случае) составляли собой единую языковую ойкумену, вольно или невольно ставившую русскую литературу выше идеологических и политических барьеров.
Так, например, Виктор Некрасов и Ченгиз Айтматов, Борис Хазанов и Анатолий Ким, Саша Соколов и Валентин Распутин, Василий Аксенов и Виктор Астафьев были частью одного литературного процесса, для которого не существовало виз и буферных зон, и не замечать это, а уж тем более воевать с этим было глупо и бессмысленно.
Однако вернемся в май 1972 года.
Из воспоминаний Кэрол Аншютц: «Бродский вышел в слезах (из ОВИРа. – Прим. авт.). Его поставили перед выбором: то ли принудительного лечения в психиатрической больнице или эмиграция в Израиль. Он был почти в отчаянии. Я для него перестала существовать. Ему пришлось проститься со всем, кого он когда-нибудь знал в жизни. Как перед смертью. На этом наши отношения кончились».