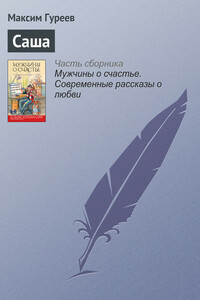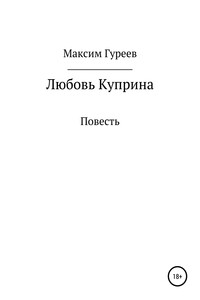Иосиф Бродский. Жить между двумя островами | страница 139
Вполне возможно, что демонстративное фрондерство Бродского, только что вернувшегося из ссылки, прошедшего «школу жизни» и почти «сталинские лагеря», воспринималось благополучными и статусными москвичами с определенной долей раздражения и недоумения. Может быть, именно поэтому ни с кем из указанных выше литераторов дружба у Иосифа так и не сложилась, хотя тот же Евгений Александрович Евтушенко приложил немало усилий, чтобы ввести Бродского в официальную, говоря современным языком, литературную тусовку того времени.
Безусловно, Москва была для него чужим городом. И дело здесь было вовсе не в извечном, абсолютно бессмысленном по своей сути споре между питерцами и москвичами, какой город лучше, но в том, что здесь Иосиф не имел своего пространства, да и время здесь текло мимо Арбата и Покровки, Красной площади и Ленинских гор, бульварного кольца и Марьиной Рощи без его ведома.
Теперь я уезжаю из Москвы.
Ну, Бог с тобой, нескромное мученье.
Так вот они как выглядят, увы,
любимые столетия мишени.
Ну что ж, стреляй по перемене мест,
и салютуй реальностям небурным,
хотя бы это просто переезд
от сумрака Москвы до Петербурга…
Эписодий Тринадцатый
От Феодосии до Коктебеля добрались на попутке.
В ту первую поездку в «край синих холмов» (так Коктебель переводится с крымско-татарского) в 1967 году Бродский отправился вместе с Анатолием Найманом.
Всю дорогу молодые люди разговаривали, разумеется, о поэзии, читали стихи, радовались новым необычным впечатлениям. Однако после того как машина миновала гряду Узун-Сырт, хорошо известную планеристам и воздухоплавателям как гора Клементьева, Иосиф замолчал.
На горизонте в сумерках выступили очертания потухшего вулкана Карадаг, что тут же и напомнил огромного звероящера, чья морда была погружена в воды залива.
Он пил соленую воду и никак не мог утолить жажду.
Он тяжело и глубоко выдыхал между глотками, выпуская в небо струи горячего, пахнущего водорослями и коктебельским разнотравьем газа.
Подумалось, а ведь это и есть киммерийские сумерки, наполненные звуками и запахами, то время суток, о котором в 1907 году сказал Максимилиан Александрович Волошин:
Равнина вод колышется широко,
Обведена серебряной каймой.
Мутится мысль, зубчатою стеной
Ступив на зыбь расплавленного тока.
Туманный день раскрыл златое око,
И бледный луч, расплесканный волной,
Скользит, дробясь над мутной глубиной,
То колос дня от пажитей востока…
И вот прошло ровно 60 лет.
Иосиф пока не знает, что тут, в предгорьях Карадага, на плато Тепсень находилось древнее поселение Афинеон (Калиера, по версии Максимилиана Волошина, который принимал участие в раскопках древнего городища в 1927 году). Однако он интуитивно ощущает, что именно здесь и звучит хор из Пролога к трагедии Еврипида «Медея». Вот хористы расставлены по террасам холмов, которые ступенями поднимаются к Карадагу. Голоса их хорошо различимы вместе с воем ветра, шумом моря и криками птиц.