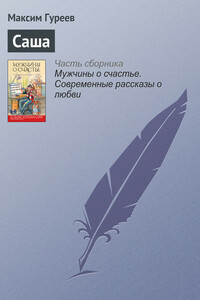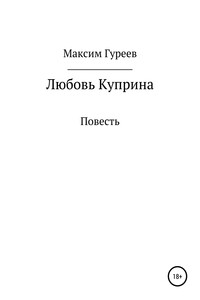Иосиф Бродский. Жить между двумя островами | страница 134
Осенью 1964 года незадолго до своей гибели в автокатастрофе генерал-майор КГБ СССР, заведующий Административным отделом ЦК КПСС Николай Романович Миронов обязал Генерального прокурора СССР Романа Андреевича Руденко, Председателя КГБ СССР Владимира Ефимовича Семичастного, а также Председателя Верховного суда СССР Александра Федоровича Горкина «проверить и доложить ЦК КПСС о существе и обоснованности судебного решения дела И. Бродского».
Таким образом, прослушивание затянувшейся ленинградской истерики касательно «окололитературного трутня» наконец утомило и Старую площадь.
После непродолжительного (всего-то два месяца) разбирательства было установлено, что «аполитичность Бродского и преувеличение им своих литературных способностей не могут служить основанием для применения указа от 4 мая 1961 года (указ о тунеядстве. – Прим. авт.)».
В переводе на русский это означало, что дело Бродского надо немедленно закрывать, а самого поэта немедленно выпускать.
Из письма французского писателя, драматурга, философа-экзистенциалиста, лауреата Нобелевской премии по литературе 1964 года (от которой он отказался) Жана-Поля Сартра на имя Председателя Президиума Верховного Совета СССР Анастаса Ивановича Микояна: «Я беру на себя смелость обратиться к Вам с письмом лишь потому, что являюсь другом Вашей великой страны. Я часто бываю в Вашей стране, встречаю многих писателей и прекрасно знаю, что то, что западные противники мирного сосуществования уже называют “делом Бродского”, представляет из себя всего лишь непонятное и достойное сожаления исключение. Но мне хотелось бы сообщить Вам, что антисоветская пресса воспользовалась этим, чтобы начать широкую кампанию, и представляет это исключение как типичный для советского правосудия пример, она дошла до того, что упрекает власти в неприязни к интеллигенции и антисемитизме… Я позволил себе послать Вам это сугубо личное письмо, чтобы просить Вас во имя моего искренне дружеского отношения к социалистическим странам, на которые мы возлагаем все надежды, выступить в защиту очень молодого человека, который уже является или, может быть, станет хорошим поэтом».
Не обратить внимания на такое письмо от такого адресата ни в Кремле, ни на Старой площади уже не могли. Таким образом, совершенно неожиданно рядовой комсомольский погром в Ленинграде (коих в те годы были сотни, если не тысячи) получил мировую огласку, что в свете нового советского внешнеполитического курса на разрядку международной напряженности было крайне неуместно.