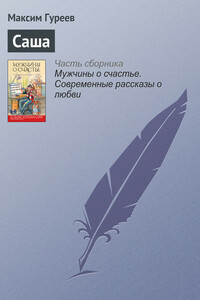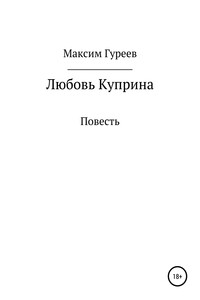Иосиф Бродский. Жить между двумя островами | страница 133
Непостоянная высота неба.
Непостоянная освещенность.
Ускользающее тепло.
Ежедневное наблюдение одного и того же пейзажа с одной и той же точки.
В этом есть что-то буддистское, медитативное, позволяющее сосредоточить ум и очистить сердце от ненужных метаний, отвлекающих от постижения истины (поэтической в данном случае).
А устремление взгляда в «квадратное, размером с иллюминатор, окно на мокрую, топкую дорогу с бродящими по ней курами» становится в конечном итоге устремлением взгляда внутрь самого себя.
В своей монографии о Бродском Лев Лосев пишет: «Сама этимология слова “поэзия” – от греческого poiesis, “делание”, то есть делание, создание языковыми средствами того, чего прежде не было». Эта мысль становится особенно близка Иосифу, когда из ничего, из пустоты северного пространства, из чередования дня и ночи, зимы и лета вдруг начинает складываться совершенно новый и непостижимый мир. Сам же процесс подобного формирования является цикличным, когда, по мысли Л.В. Лосева, «повторяются дневной, недельный, годовой циклы, и поэзия основана на регулярной повторяемости – звуков (в частности, в окончаниях строк – рифме), ритмических фигур, образов, мотивов».
И вот уже над Коношским трактом, по которому в сторону Вельска, пыля, едут лесовозы, высится Вавилонская башня из слов, обрывков слов, музыкальных фраз, воспоминаний, сюжетных и бессюжетных эпизодов, поэтических аллюзий и отсылок к Одену или Фросту, Баратынскому или Рильке, Паунду или Катуллу.
Это сооружение завораживает своим величием, не давая никаких поводов к сомнению в своей долговечности.
Таким образом, окончательно обретя свой голос именно в англо-американской поэтической традиции рубежа XIX–XX веков, опираясь при этом, разумеется, на древнегреческих и древнеримских титанов и переосмысливая этот опыт исходя из русской языковой и фонетической палитры, Бродский по сути первым из русских поэтов вышагнул из Пушкинской плеяды, чего до него сделать не удавалось никому. Конечно, поступок этот был весьма и весьма дерзким, даже отчасти хулиганским (что, как мы уже поняли, было свойственно Иосифу Александровичу). Однако важно понимать, что это была не сиюминутная выходка пижона, уверенного в собственной гениальности и желающего обратить на себя внимание, но естественное и органичное высказывание художника, в жертву которому он принес слишком многое, чтобы выслушивать в свой адрес обвинения в тунеядстве и позерстве, формализме и невменяемости.