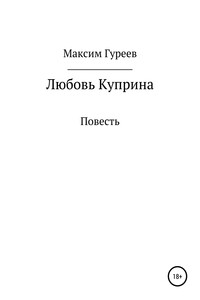Иосиф Бродский. Жить между двумя островами | страница 112
Эписодий Одиннадцатый
1962 год. Расстались в огромном, как вестибюль станции метро «Автово», парадном дома на Глинки. Марина сказала, что не может позвать Иосифа в гости, потому что из Китая на несколько дней приехал ее дядя – дипломат Михаил Иванович Басманов, и вся семья в сборе.
Да и поздно уже…
Он медленно спустился по парадной лестнице.
Конечно, знал, что в городе этот дом называют «особняком Бенуа», даже читал о нем в воспоминаниях Александра Николаевича Бенуа – главного русского мирискусника: «Эта парадная лестница начиналась внизу с прямого, ведшего вглубь, коридора, под, убранным сочными розетками, сводом, а затем сворачивала влево и опять подымалась широкими всходами между массивными столбами; на каждом повороте открывалась своеобразная перспектива. Всё это носило тяжелый и несколько мрачный характер, но и усиливало одновременное впечатление чего-то крепкого и надежного, почти крепостного. Я был убежден, что фамильные тени продолжают бродить именно по этой оставшейся нетронутой лестнице и должны были встречаться с нами, с их живыми потомками. При луне или тусклом сумраке белых ночей, да и освещаемая отблеском единственного фонаря, продолжавшего гореть на дворе всю ночь, – наша парадная превращалась в настоящую “декорацию для драмы”, хоть никаких драм и трагедий в нашем доме за все мне известные периоды, слава Богу, не произошло… До полуночи лестница освещалась газом, рожки которого были заключены в большие стенные фонари, сохранившиеся от времен, когда она освещалась масляными лампами. На ночь эти фонари тушились».
Иосиф усмехнулся (про «фамильные тени» особенно понравилось) и вышел на улицу. Закурил.
Посмотрел на окна квартиры Басмановых, где горел свет, а оттуда, сверху, на него в ответ, как всегда, взирали маски Горгоны с разинутой пастью и улыбающейся Артемиды.
Особенно забавно эта лепнина выглядела зимой, когда комья мокрого снега налипали на бровях и носу этих нездешних существ, свисали клоками, шевелись под действием ветра, и могло показаться, что они вот-вот заголосят что-нибудь из Кавафиса.
Например вот это:
Прискорбно, что судьба несправедлива
к тебе, природой созданному для
деяний доблестных, успеха, славы.
Тебе здесь негде проявить свой дар,
и ты коснеешь в низменных привычках,
ты делаешься безразличным, пошлым.
Но страшен день, когда, махнув рукой
на эту жизнь, поддашься искушенью
и тоже ступишь на дорогу к Сузам,
где правит Артаксеркс…
Из эссе Иосифа Бродского «На стороне Кавафиса»: «Константинос Кавафис родился в Александрии (Египет) в 1863 году и умер там же семьдесят лет спустя… Кавафис знал древнегреческий и новогреческий, латынь, арабский и французский языки; он читал Данте по-итальянски, а свои первые стихи написал по-английски. Бессобытийность жизни Кавафиса была такова, что он ни разу не издал книжки своих стихов. Он жил в Александрии, писал стихи… толковал в кафе с местными или заезжими литераторами, играл в карты, играл на скачках, посещал гомосексуальные бордели и иногда наведывался в церковь… Гомосексуальная идея жизни в конечном счете, вероятно, более многогранна, чем гетеросексуальная. Идея эта, рассуждая теоретически, дает идеальный повод для писания стихов, хотя в случае Кавафиса этот повод есть не более чем предлог… Единственное имеющееся в распоряжении человека средство, чтобы справляться с временем, есть память; именно его исключительная, чувственно-историческая память создает своеобразие Кавафиса. Механика любви как таковая предполагает существование своего рода моста между чувственным и духовным – предположение, доводящее порою до обожествления любви, ибо идея запредельной жизни присутствует не только в наших совокуплениях, но и в наших разлуках. Как ни парадоксально, в том, что касается этой эллинской “особой любви”, стихи Кавафиса… являются попытками (или, вернее, сознательными неудачами) воскресить тени некогда любимых. Или – их фотографиями».