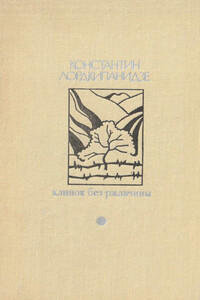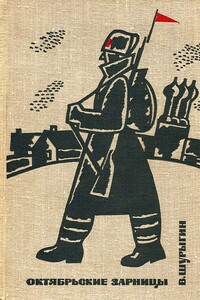Избранное | страница 71
— Эй, малый! Ты что — спятил? Полстебля оставляешь! Не бойся, не бойся, нагнись пониже и режь под самый корень! — сказал он усталому, мокрому от пота Меки.
Неблагодарность хозяина обидела парня. Он до полудня сжал такой огромный клин, а этот старый черт все равно придирается! Меки нагнулся и, чтобы досадить Барнабе, полоснул по кукурузному стеблю у самой земли. Серп звякнул о камень.
— За камни цепляешь, дубина! — взбеленился Барнаба. — Повыше бери!
— Вот так? — Меки размахнулся и в сердцах снес кончик стебля.
— Вот так, неслух! Смотри! — Барнаба вырвал у него серп, подоткнул полы черкески и принялся за работу.
Солнце склонилось к западу, расстелило по долине длинные сиреневые тени и наконец скрылось за Лехемурским лесом. Одно мгновение казалось, что его зубчатый темный гребень охвачен огнем. Потом и этот огонь погас. Сразу стало прохладно. Проснулся ветерок, зашевелил траву.
Барнаба снял с арбы мерную корзину и начал делить кукурузу.
— Дай нам хоть немного фасоли, Барнаба! — попросила Марта, тоскливо глядя на корзину, которую он три раза опорожнил в свою арбу и один — в арбу Марты.
— О фасоли мы же не уговаривались.
— Но я не знала, что ты будешь ее сеять. При уговоре ты ничего не сказал. Раз посеял — поделись со мной, Барнаба, ведь мы с голоду пропадем! Три-четыре меры фасоли от нужды, правда, не спасут, а все легче будет перебиться.
— А мне самому разве легко живется? — зло обернулся Барнаба. — Сколько я просил наших начальников, чтобы мне уменьшили налог, только они и ухом не повели!
— Ладно, ничего мне не надо, — тихо сказала Марта и скрылась за арбой.
— Да ты не огорчайся. Все, что останется в поле и на винограднике, — твое, — чуть подобрел Барнаба. — Потом подберешь.
Он не услышал в ответ ни слова, хотя по скрипу нагруженной корзины можно было догадаться, что Марта никуда не ушла.
Все, что останется после сбора! Потом подберешь! Да у Барнабы в винограднике не найдешь после сбора ни одной забытой ягодки — так тщательно он обирает лозы. И в поле особенно не разживешься!..
…Подножие Катисцверы погрузилось в темноту. Прозрачные лиловые сумерки окутали долину. Откуда-то донеслись звуки песни. Певец сначала неуверенно вывел две-три рулады криманчули, пробуя голос, как пробует его соловей, начиная свою вечернюю песню. Потом голос его окреп, и криманчули, словно звонкий ручей, заструилась в вечерней тишине. Певца не было видно, но люди, работавшие в долине, поняли: он окончил свой трудный день, отломил от стебля последний початок, повалился, усталый, на землю, отдохнул немного, а там уж первая трель сама слетела с его губ. Он пел, этот невидимый певец, устремив взгляд в темное ночное небо.