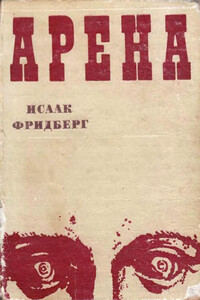Закон Бернулли | страница 42
В свете луны отчетливо белело зависшее неподвижно над землей самолетное крыло и можно было сосчитать круглые дюралевые заклепки на нем и прочесть маленькие буковки надписи, диковинной для такой высоты: «Не ступать». На этом же самолете он должен был возвратиться назад, но обстоятельства сложились несколько и н а ч е, чем этого хотели ожидавшие его на земле, как он сам тоже хотел вместе с мрачным штурманом и первым пилотом, лица которого он так и не увидел.
А после всего э т о г о осталась у него тускло-белая коробочка — серебряная табакерка с тонкой чеканкой по крышке и будто срезанными боками, настолько приветливая и красивая, что ему невольно представлялся добрый мастер-чеканщик, непременно усатый старикан серб, потративший не один день и месяц, чтобы придать этой безделице истинную привлекательность, от которой теплеет на душе у людей, если любят они окружать себя в жизни по-настоящему красивыми вещами.
Старикан серб был добрым джинном его старческой блажи. Так ему хотелось: серб и только серб, а не хорват, не черногорец, не македонец и даже не албанец из Косово и Метохии[1], а именно усатый серб, хотя табакерка, приветно даренная ему в знак его о с о б о г о умения, могла быть сотворена вовсе и не на Балканах, на что не совсем утвердительно, как бы стесняясь, намекала вязь серповидных боковых узорчиков, чей робкий глас он старался не воспринимать, поскольку обнаруживающийся их магометанский акцент вносил малую, но все же заметную дисгармонию в уже составленное им представление.
А мог быть скандальный тезка его попутчиком на Адриатику — одним из т е х двоих, кто протяжно и жалобно звал В и к т о р а с а? В тот полет навряд ли, хотя — как знать. Как знать. Спросить? А почему бы не спросить? Только потом, конечно. В запасе еще вечность.
За долгую жизнь он убедился, что невероятное чаще всего происходит не в красивых романах, повестях и рассказах, набитых пряничным вымыслом, роковыми совпадениями, узнаваниями и гибельными утратами, а в этой самой серьезной жизни, которую часто в сердцах клянут за трудности и горести, за серость и обыденность, но всегда жалеют, если она кончается.
Отец знакомил как-то с военврачом второго ранга Колесниковым. Тот в блокадном Ленинграде собрал уцелевших художников и спросил их: «Возьметесь рисовать раны?» — «Раненых?» — не поняв, переспросили они. «Нет, раны…» Художники ходили и ездили по медсанбатам, госпиталям, рисовали, рисовали, рисовали… Сейчас для хирурга нет ценнее десятитомного «Атласа огнестрельных ранений».