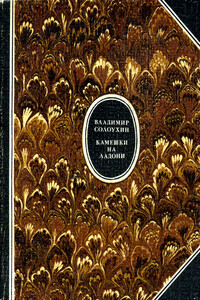Закон Бернулли | страница 35
Подумалось — такой вот лимузин уж ни за что не оставишь на зиму у окна под брезентом.
Шофер сыто и равнодушно сидел за рулем, выставив локоть поверх приспущенного стекла. Люди быстро привыкают к самым роскошным вещам. Из лимузина тихо пиликала музыка, по его исчерна-лиловым бокам желтыми змейками струился свет уличного фонаря. Шофер был безразличен к балконному шуму, как человек, у которого достаточно соображения не обращать внимания на то, что этого внимания не достойно. И в его сторону даже не глянул, не посмотрел, как выронил он поднятую с асфальта фотографию, как снова она легла на асфальт рядом с разбросанными бумагами и открытками.
Он догадался, что сейчас кто-нибудь должен быстро спуститься сюда за ними, и не ошибся — выбежала растрепанная немолодая женщина в распахнутом халате и тапочках на босу ногу.
Еще раз он попытался дыханием унять боль в груди и подумал, что если не достанет из жилетного кармана свою серебряную коробочку-табакерку, то все может кончиться скверно. Его всегда ранила любая людская обида. Закрыв глаза, не перешагивая через арык, отошел к толстому дереву, боясь упасть, прислонился к стволу и ногтем ковырнул тугую крышку табакерки. В арыке по осени воды нет, забит желтыми листьями, от листьев тонкий горьковатый запах увядания, сыроватой прели. Крышка поддалась не сразу, и, когда он брал со дна белую таблетку, таблетка ускользала, пальцы его подрагивали, потому что он опасался: не успеет. Во рту становилось жарче и суше.
— Ста-а-арый каналья, а напился-то! Сапожник сапожником! — осудила его, приблизившись, баба в бесстыдно распахнутом, куцем, будто с девочки снятом, халате, и, бело сверкнув в темноте толстыми икрами ног, наклонилась, не обращая на него никакого внимания, и принялась подбирать бумаги.
Но осудила она его незло, не стала распаляться больше, должно быть потому, что от нее самой сильно пахло вином, а, когда она подняла оброненный им стек и подала ему, глаза ее расширились от страха и сочувствия, а вином запахло еще сильнее.
— Отец, вам плохо, да? — выдохнула она шепотом. — Надо помочь? Я сейчас, я сейчас!
Но он уже успел справиться с таблеткой. Сочувствие же придало ему силы.
Лицо у нее было слегка оплывшее, простоватое, но в молодости, должно быть, очень красивое. Неподдельная тревога, сделавшая это лицо вновь красивым, перекинула его на миг в собственную молодость — столько он перевидел таких тревожных лиц в первую военную осень, когда на широкой приграничной дороге справа, как во сне неправдоподобном и кошмарном, виделся ему сквозь мелкую сетку нудного дождя весь хаос отступления, переполненные санитарные грузовики и повозки, велосипеды, тачки, тележки беженцев с наскоро перевязанными, разлезающимися под дождем узлами, ненужными коробками, громоздкими ящиками, настенными часами, кухонной утварью; зубной врач-еврей из-подо Львова не мог расстаться с бормашиной; пожилой и жалкий, он просился в повозку какого-то детского сада; а слева — навстречу этому потоку и собственной судьбе, отжимая этот поток к обочине и испытывая на себе взгляды, полные спасительной надежды, сумрачно двигались в пешем строю стрелки еще довоенного призыва, вооруженные самозарядными винтовками с широкими, кинжального вида штыками, и уже более чем наслышанные о том, что «он» прет нещадно и люто, и знающие о том, что обратный путь им, если выпадет, то будет этот обратный путь не легче, чем у тех, кого они видели перевязанными за мокрыми разболтанными бортами полуторок, наскоро переоборудованных под санитарные машины…