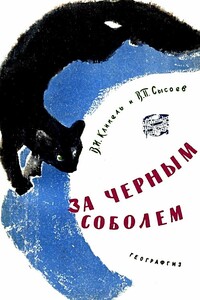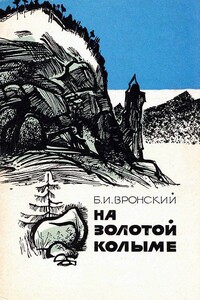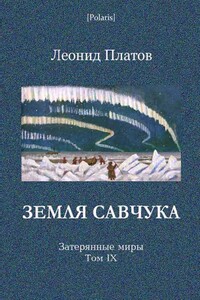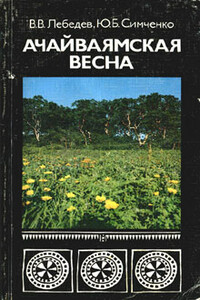Тундра не любит слабых | страница 65
А поскольку мне хотелось спать и прикорнуть было негде, десять километров Ламы Лапсуя превратились для меня в пятьдесят. Путь до фактории казался нескончаемым.
Название «фактория» мы употребляем по привычке, и оно вряд ли отвечает теперь действительности. Как известно, в переводе с английского слово означает удаленную от центра торговую контору, своего рода филиал компании. Они были орудием закабаления народов в слаборазвитых странах. Мы приняли наименование по наследству от российских и американских купцов, обосновавших на Ямале, Таймыре, Чукотке фактории для выкачивания из этих мест пушнины, золота и других богатств Севера. Название осталось — суть переменилась в корне. Мне не приходилось бывать в Заполярье в двадцатые — тридцатые годы, но я знаю, что фактории стали для народов Заполярья очагами культуры, пособниками хозяйственного прогресса. Тогда они представляли собой два — четыре домика, затерянные в тундре: культбаза, магазин, склад, радиостанция. И местное население, как правило, вблизи этих факторий не селилось, оно кочевало в тундре, лишь в случае необходимости посещая работников фактории.
Теперь картина изменилась. Антипаюту по-прежнему именуют факторией, хотя в официальных документах она значится поселком. И это действительно поселок. Пусть небольшой, всего с одной широченной улицей, вдоль которой стоят дома и проложены дощатые кладки — тротуары. Но здесь живут не только приезжие, но и ненцы, перешедшие на оседлость. В Антипаюте большая школа-интернат, клуб, два магазина, амбулатория, радиостанция, причал, небольшой рыбозавод, несколько катеров, не считая бесчисленных моторок, почта. Над поселковым Советом гордо вьется на ветру когда-то красный, а сейчас розовый, выгоревший на солнце флаг. В общем, обычное село, ничем не примечательное, если не замечать летних чумов, стоящих рядом с домами. Но потом, когда я несколько дней прожил в тундре на одном из стойбищ, ходил по единственной улице Антипаюты, будто по московской улице Горького, поселок казался мне воплощением городской цивилизации, а рыбкоопская столовая производила впечатление ресторана.
В столовой-то я и познакомился в первое утро с тремя «курскими соловьями», уже третий год обитающими в тундре. Хотя, если быть точным, это были не соловьи, а соловьихи: молодые учительницы Антипаютинской восьмилетней школы-интерната. Представились они серьезно, по-взрослому:
— Лилия Павловна.
— Валентина Федоровна.