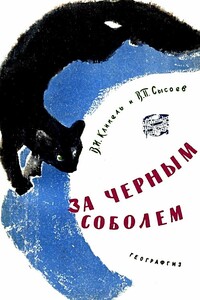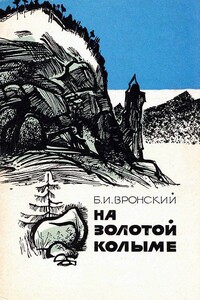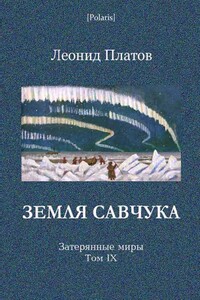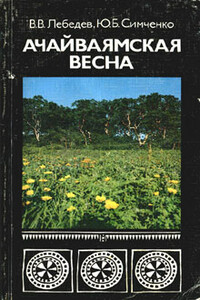Тундра не любит слабых | страница 31
— Нет уж, — гордо отказался мой приятель, — буду питаться ягелем, пускай столичные жители картошку едят, они ведь нежные.
Несмотря на решение голодать, ел он довольно быстро, успевая одновременно жевать, очищать от кожуры другую картофелину и рассказывать, как он с дедом в войну стерег бурты с совхозной картошкой. О деде он вообще рассказывает мастерски. Так и видишь перед собой старого уральского казака, лукавого, хитроватого, но прямодушного по натуре.
— Голодно тогда было, вот старик и варил каждый вечер картошку. Ну, управляющий раз прищучил. Говорит: «Что же ты, дед? Тебя поставили продукт стеречь, а ты его варишь?» Старик поскреб пятерней в бороде, сокрушенно вздохнул и в ответ: «А что мне ее сырой есть, что ли? С моими зубами только вареную и можно…» Расхохотался управляющий: ладно, говорит, старый пень, вари, только домой не носи…
Жизнь Сашку не баловала. Сашку вырастил дед, но и тот не дожил до дня, когда внук встал твердо на ноги. Кончил школу с золотой медалью, поступил в военно-инженерное училище. Но через две недели после начала занятий понял, что ошибся адресом. Забрал документы, месяц работал на погрузке угля, чтобы заработать деньги на проезд, и уехал к дальним родственникам в Среднюю Азию. Там его взяли директором клуба… глухонемых в областном центре. И вменили в обязанность обучать членов клуба грамоте. Пришлось самому постигать азбуку жестов и мимику. Вероятно, именно этот год в директорском кресле и отшлифовал природные способности Сашки к перевоплощению, обострил его наблюдательность. Он как-то признался, что порой чувствует себя немым, не умеющим высказать что-то очень важное. А это важное рвется из души, требует выхода. И тогда он пишет стихи.
После Средней Азии он вновь вернулся на Урал, поступил в университет, кончил факультет журналистики и стал «землепроходимцем». Так он именует разъездных корреспондентов, в том числе и себя. «Земле-проходимцы, — изрекал Сашка поучительным тоном, — отличаются от землепроходцев тем, что ездят ради собственного удовольствия за казенный счет, новых земель не открывают, а лишь описывают чужие подвиги или грехи…»
…Наш поезд снова останавливается. Мы к этому уже начинаем привыкать. Однако на этот раз стоянка длится что-то долго. Выглядываем в окно. Невдалеке у насыпи полосатый деревянный столбик. На нем углом две дощечки с надписями: «Европа», «Азия». Часть состава уже в Азии, часть — в Европе. Паровоз словно собирается с духом, тяжело отдувается, коротко и часто вздыхая. Можно подумать, что он бежал сюда так быстро и поэтому запыхался. Наконец, видя, что его вздохи не вызывают у безмолвных гор никакого сочувствия, он сердито дергает состав. Раз, другой, третий…