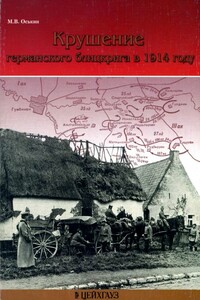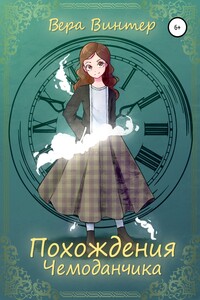Крах плана Шлиффена. 1914 г. | страница 50
Помимо того, столь осторожный стратег, как граф Шлиффен, рассчитавший свое планирование на огромном риске борьбы на два фронта, не мог не думать и о запасном варианте. Иначе говоря, о том, что надлежит делать, если русское вторжение окажется успешным и 8-я германская армия окажется отброшенной за линию Вислы. С.Б. Переслегин отмечает: «Правильно и последовательно выполняя “План Шлиффена”, Германия выводила Францию из войны: союзники в 1914 г. не смогли противопоставить движению германского правого крыла ничего реального. За это немцы должны были заплатить тяжелым поражением Австро-Венгрии и возникновением кризиса на Востоке. В лучших мечтах Шлиффена линия фронта устанавливается там по линии Западного Буга, но и рубеж Висла – Сан вполне устраивал старого фельдмаршала»[51]. Мы также поддерживаем ту точку зрения, согласно которой в августе 1914 г., строго выполняя исходный «План Шлиффена», Германия имела шанс на разгром Франции и, следовательно, на победу в Первой мировой войне по меньшей мере на первом ее этапе.
В случае оставления Восточной Пруссии превосходящему противнику немцы намеревались драться на Висле, для чего речная линия покрывалась сетью крепостей с мощными тет-де-понами на ее восточном берегу. Этим укреплениям, так же, как Кенигсбергу и Летцену, придавалось огромное значение. Иначе говоря, если линия Кенигсберг – рубеж реки Ангерап – Мазурский озерный район с Летценским укрепленным районом в центре служила первой оборонительной линией от русского вторжения в Германию, то линия крепостей по Висле – вторым рубежом сопротивления. Как отмечает Ж. Ребольд, «в последние, предшествующие войне годы, кредиты, отпущенные на оборонительные сооружения, были использованы преимущественно на оборудование крепостей, расположенных по Висле (Торн, Кульм, Грауденц и Мариенбург). А также большого военного порта Данциг, находившегося за левым флангом этой линии крепостей»[52].
В России также хорошо знали театр военных действий, и уж тем более были осведомлены о немецкой военной игре под руководством Шлиффена по отражению русского наступления в Восточную Пруссию. Однако в реальности в августе 1914 г. русские военачальники повели себя так, как будто бы и слыхом не слыхивали ни о Шлиффене, ни о его оперативном планировании по обороне Восточной Пруссии от русского вторжения. Более того, почему-то предполагалось, что германцы могут действовать в соответствии с уже давно устаревшими канонами военного искусства XIX века: 2–3 армейских корпуса отступают в мощную крепость Кенигсберг на крайнем правом фланге наступающих русских армий, и тем самым будто бы сковывают большую часть русских сил. Прочие же немецкие дивизии ведут полевую борьбу на подступах к Нижней Висле, сдерживая русский «паровой каток». Таким образом, русские генералы считали возможным, что противник сам, добровольно, запрет в крепости половину своей армии прикрытия, чем окончательно отдаст инициативу русским.