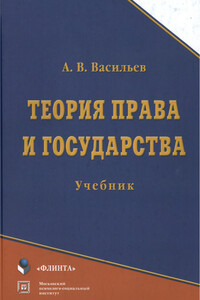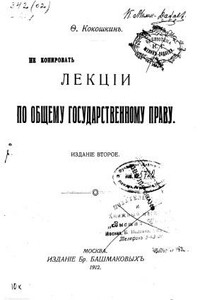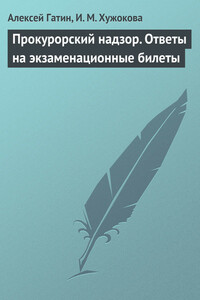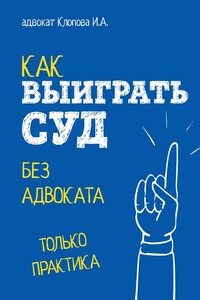Самоучитель начинающего адвоката | страница 127
Однажды мой коллега удачно отстаивал позицию совершения его подзащитным менее тяжкого преступления, за которое не могло быть назначено наказания в виде лишения свободы. Но перед этим по его инициативе потерпевшему был возмещен моральный ущерб. Скорее всего, подсудимый был виноват в большей степени, чем оказалось доказанным в суде, но своими действиями адвокат, как мне показалось, стремился не только помочь своему клиенту, но и восстановить справедливость в отношении потерпевшего.
В теории закон не должен противоречить морали, но на практике право нередко вступает в конфликт с нравственными нормами. Поэтому, несмотря на наличие правовой позиции, важно проверить еще нравственную безупречность дела.
Например, отец двух несовершеннолетних детей не платит алиментов и подает иск о взыскании с малообеспеченной бывшей супруги, на иждивении которой находятся дети, оплаты жилищно-коммунальных услуг. Или пример посложнее. Дочь обращается с иском о выселении из единственного жилья своих родителей, ссылаясь на прекращение с ними семейных отношений.
Формально данные требования основаны на законе, но с точки зрения морали возникают вопросы. Учитывая коллизионность нашего законодательства, правовое оформление притязаний клиента может быть обеспечено во многих спорных случаях, в том числе противоречащих морали, то есть подобные примеры можно приводить бесконечно. Но, по моему глубокому убеждению, адвокат не должен защищать интересы, лишь формально основанные на законе, но этически не оправданные.
Однако бывает проблема и иного порядка. Иногда у морально правой стороны по объективным причинам отсутствуют необходимые доказательства либо из-за существующих пробелов в законе невозможно четко определить правовую позицию. В этой связи складывается мнение о том, что дело бесперспективно, так как закон не защищает клиента либо вообще оказывается в положении против него.
Например, пожилая больная женщина совершила сделку купли-продажи жилья лицу, рассчитывая на то, что он будет ухаживать за ней до смерти, а «покупатель» через некоторое время бросил ее на произвол судьбы. Все доказательства на стороне «покупателя», так как есть договор и расписка в получении денег за жилье, которые фактически не передавались. Но из поведения сторон, житейской логики очевидно одно: женщина не врет, продавать единственную квартиру она не собиралась, подписала документы, не поняв их истинного значения, она стала жертвой аферистов. Отказать в защите клиенту из-за бесперспективности дела и отсутствия четкой правовой позиции в этом случае нельзя.