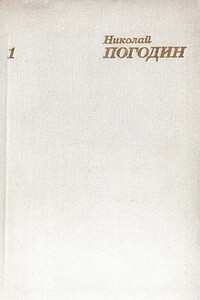Разгуляй | страница 49
Болезненней всего мама переживала четверку по поведению — в те времена это было равносильно высшей мере, при которой в следующий класс переводили только по особому решению педсовета. Причиной моего грехопадения мама, безусловно, считала адресованный Миле конверт. Это окончательно утвердило ее во мнении, что нужно предостерегать меня от встреч и знакомств с девчонками.
А с Милой я так и не сумел выяснить отношения в то лето, потому что последние две недели учебного года находился на положении штрафника и каждый мой шаг бдительно контролировался. Лишь однажды мы случайно встретились на улице, но я принял гордый и оскорбленный вид, а она прошла мимо, отвернувшись, — еще более гордая и независимая. После этой встречи я дважды звонил ей по телефону, но не решался произнести ни слова — в трубке звучал чужой, незнакомый голос. Как выяснилось потом, в первые же дни каникул Милу отправили на юг к знакомым.
Встретились мы только осенью, и после бурного объяснения все вроде бы пришло в норму, но много еще всяких препон стояло на пути нашей любви. Одним из серьезнейших осложнений были мамины намеки и предостережения. При всяком удобном случае она как бы безотносительно к Миле старалась развенчать ее. Причем касалось это всего: и внешности, и возраста, и черт характера, которых она конечно же не знала и не могла знать, как не мог знать никто, кроме меня. Такие «безотносительные» разговоры кончались обычно бурными сценами и ландышевыми каплями.
Но одна из «безотносительностей», а именно мамина симпатия к блондинкам — в пику темно-пепельной Миле, все же, видимо, запала мне в голову, потому что в ту зиму я вдруг совершенно безоглядно влюбился в золотокудрую Люсю Орлову. Сначала я одинаково любил и Милу, и Люсю, но с каждым днем все чаще стал задумываться, кого же из них я люблю сильнее. Это тревожное ощущение всякий раз охватывало меня, когда мы с Люсей возвращались из Дома пионеров после занятий театральной студии.
Быть может, образ этот разрастался в моем сознании и без маминого влияния, она тогда ничего еще не знала о Люсе. Но, как назло, Люся Орлова во всем была прямой противоположностью Миле Мирандо. Спокойная уравновешенность, рассудительность не по летам, мягкий вкрадчивый голос Милы словно контрастировали какой-то мальчишеской бесшабашности, жизнерадостности и задорному с переливами смеху золотокудрой сияющей Люси. Она буквально ослепила меня, затмила все вокруг, я едва ли не бредил ею. Она была для меня и леди Гамильтон, и пушкинской Татьяной, и одновременно же Анной Керн, и герцогиней из «Трех мушкетеров», и Беатриче, и Машей Троекуровой — и вообще окрылялась романтическими чертами всех известных мне тогда героинь.