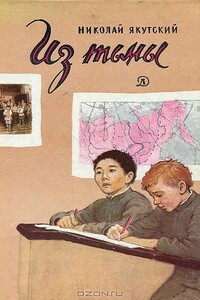Разгуляй | страница 48
На следующем уроке меня — с портфелем — вызвали к Анафеме, то есть к директору Анастасии Николаевне. Это не предвещало ничего хорошего. Анафема, как всегда, долго кричала, а потом объявила, что исключает меня из школы, не дожидаясь педсовета, и потребовала дневник. Я отлично понимал, чем это грозит, и копался в портфеле, перебирая тетрадки и учебники и будто бы не находя дневника. Анафема пристально следила за каждым моим движением. И тут меня подвело старательно выведенное на тетради по геометрии философское заключение о женщинах, бросившееся в глаза директору. Выхватив у меня портфель, она извлекла оттуда и тетрадь, и дневник. Ознакомившись с моим женоненавистническим жизненным кредо, Анафема бросила на стол тетрадь, взялась было за дневник, и тут — о ужас! — из тетрадки предательски высунулись обрывки силуэта Мельницы. Это была явная и неопровержимая улика моей причастности к «линчеванию» — сама «жертва», низверженная с высот нашего публичного презрения, сиротливо, с помятыми лопастями крыльев приютилась на директорском столе… Анафема снова взяла тетрадь, открыла ее и — семь бед, один ответ! — в довершение ко всему прочему обнаружила там вырванный из дневника лист с двумя «гусями». Пораженная таким количеством проступков, Анафема даже не нашла слов для возмущения, а, сложив в стопку вещественные доказательства и отобрав портфель, отправила меня за мамой.
…Когда вошли в кабинет Анафемы, там уже сидела Мельница («Хорошо, хоть Кайзера нет», — подумал я). Меня тут же выдворили за дверь, но по доносившемуся из кабинета шуму я догадывался, что обличение идет в два голоса. В ожидании приговора я старался взвесить все «за» и «против». Но, увы, на поверку выходило, что единственным «за» — хотя бы в глазах мамы — могло служить то, что Кайзер ударил меня, — дома у нас никогда не практиковалось рукоприкладство… Наконец меня позвали: в кабинете сильно пахло валерьянкой и мама была в слезах. Анафема уже не кричала, а со всей приличествующей случаю торжественностью объявила приговор: меня исключают из школы на три дня и выводят тройку по поведению в четвертой четверти. А потом добавила — уже без всякой торжественности, что я бессовестный нахал и бесчеловечно отношусь к своей больной матери… После недавней смерти отца у мамы действительно участились сердечные приступы, поэтому, придя домой, я снова отпаивал ее ландышевыми каплями.
Утром, заперев меня дома, мама ушла в школу, и, наверное, в результате ее визита мера наказания была сокращена до одного дня. Героем-мучеником, пострадавшим за идею, появился я на следующий день в школе. И тут выяснилось, что мое помилование произошло, главным образом, из-за того, что нужно было исправлять двойки по алгебре и геометрии. В шестой класс я перешел с четырьмя четверками: по английскому, алгебре, геометрии и поведению — причем все из-за троек в четвертой четверти.