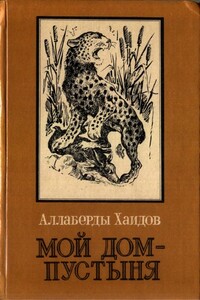Разгуляй | страница 44
Мои обиды вспыхивали одна за другой, распаляя воображение. И вместе с тем какое-то совсем иное ощущение исподволь охватывало меня… А что, если ее и в самом деле не было дома? Но где же она могла быть так долго? А что, если?.. От этой мысли меня бросало то в жар, то в холод — и становилось жутко.
Ну и пусть! Как бы там ни было, нужно быть твердым и непреклонным в своих решениях. Здесь мое последнее слово… Но как быть со стихами? Нет, нет — всему конец.
В негодовании вырвал я из тетрадки еще один лист и написал — уже в прозе — до невероятности гневное и разоблачительное заключение к своему посланию. Поставив для солидности в верхнем левом углу буквы «P. S.», твердой рукой вложил я свой триптих в специально заготовленный (правда, для совершенно иной цели) немецкий конверт с муаровой подкладкой и уже собрался было запечатывать его. Но — странное дело! — пока я писал, мое отношение к Миле было категорическим и непримиримым, а когда закончил, снова охватили сомнения. И опять заскребло на душе, и опять сжалось сердце. Я старался побороть презренное малодушие, но чем больше старался, тем яснее сознавал свое полное бессилие… В конце концов решил быть волевым и непреклонным, как герой фильма «Нет мира под оливами».
«А как быть со стихами?» — мелькнула мысль. И вот тут-то я принял мучительное, но зато твердое решение: раз наши отношения порваны (а в этом я старался не сомневаться), стихи должны быть уничтожены. И опять жалобно застонало сердце, и опять начались сомнения, но теперь уже не лирические, а честолюбивые. Что же, выходит, для истории литературы пропадет мое раннее творчество? Ведь я не сохранял черновиков, боясь, как бы они не попались на глаза маме… И я принялся за воссоздание черновиков.
Сначала на одном листе бумаги набросал я различные варианты и фразы к уже написанным стихам, а потом на другом — корявыми («спешил не упустить набегавшие мысли») и по возможности разнообразными («работал в разное время») почерками начал переписывать стихи, последовательно зачеркивая варианты: одни фразы — аккуратно, другие — сумбурно и энергично, но так, чтобы «будущий исследователь» все же смог разобрать. Затем первый лист, то есть черновик «черновика», изорвал, а второй — разрисовал задумчивыми женскими головками («так обычно бывает в рукописях»).
Я сфабриковал уже несколько «черновиков» и так увлекся своей работой, что не заметил, как подошла мама. Она настолько была удивлена моим занятием, что даже не спросила, что я делаю, а стала отчитывать меня. Нужно было выкручиваться, и я, не моргнув глазом, соврал, что выучил уже все устные предметы. Мама не поверила и потребовала, чтобы я показал, чем занимаюсь… О, вот тут мне представилось самое страшное мгновенье моей жизни! Я скорее согласился бы на самую мучительную казнь, чем открыть перед кем-нибудь, кроме Милы, свои стихи и послания. (Другое дело — будущие исследователи: им все можно, они ворошат и не такие подробности. После смерти все дозволено — мертвые срама не имут…) Мой диалог с мамой грозил перерасти в драматическую сцену. Но у меня, наверное, был такой отчаянный вид, что мама, ввиду позднего времени, решила перенести наши объяснения на утро. Она велела мне сейчас же ложиться спать и направилась уже в свою комнату, как взгляд ее упал на конверт с четко выведенной надписью: «ЛЮДМИЛЕ МИРАНДО (лично)»…