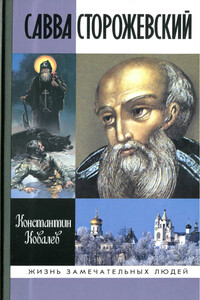За неимением гербовой печати | страница 30
Вскоре он и сам вернулся с кипой фотографий в руках. Вывалил их на стол. Потом выхватил несколько штук из общей кучи и развернул веером, как карты, поднес к маме и, тыча пальцем, словно расстреливая одно изображение за другим, заорал:
— Дас ист дайн Манн, комиссар. Но, вас загст ду?![9]
То, что он показывал, не было фотографией моего отца. На снимке был изображен сосед со второго этажа, майор Твердохлеб, с женой и детьми.
— Это не мой муж, — тихо сказала мама, — разве вы не видите?
— Но, но, — замахал немец рукой, дескать, знаем, знаем. — Дас ист дайн Манн, унд дас ист ду[10], — и он показал на жену Твердохлеба.
— Нет, это не я, разве вы не видите? — упрямо повторила мама.
Немец замолчал и тем же указательным пальцем, что тыкал в фотографию несколько раз, как маятником, покачал перед маминым лицом.
— Поглядите как следует, — вмешался я, обращаясь к рябому, мне казалось, что он не такой злой, как блондин, — ну поглядите да скажите сами.
Ироническая улыбка скользнула по лицу рябого, и он что-то сказал блондину. Тот порылся в груде фотографий, извлек еще несколько снимков и вновь показал маме.
— Дас ист дайн Манн, абер ер шон капут[11].
Мама в ужасе глянула на то, что показал немец. На этот раз на фотографии были Федя и Аннушка. У Феди было фотогеничное лицо, и он отлично получался на снимках. На этом снимке он был совсем как в жизни.
Немец внимательно следил за тем, как мама разглядывает фотографию, и желваки зло ходили под кожей. Ему не терпелось увидеть отчаяние женщины, узнавшей о гибели мужа.
Мама отрицательно покачала головой.
— Это тоже не мой муж, откуда вы взяли, это другая женщина.
— Дайн, дайн, — заорал немец и затопал ногами. — Дас ист дайн Манн, абер ер ист шен капут. Ду вирст аух штербен[12].
Он схватился за кобуру, якобы стараясь вытащить наган.
И тут я сообразил, что вся эта затея с фотографиями сплошная игра. Немцы отлично видели, что на фотографиях, которые они показывали, нет мамы, и настаивали на этом просто ради забавы, чтобы поиздеваться.
Я потянул маму за руку. Она, окаменев, глядела на орущего эссесовца.
— Хинаус, — еще пронзительней заорал немец, надвигаясь на нас. Схватил с дивана вещи, швырнул в лицо.
Я настойчиво потянул маму к выходу.
— Хинаус мит ойх, ферфлюхте швайне[13], — орал фашист.
Не помня себя от ужаса и обиды, мы очутились на улице.
Мама шла, тяжело сгорбившись, устремив невидящий взгляд в пространство, подавленно молчала. Когда пришли на Московскую, почти истерически разрыдалась.