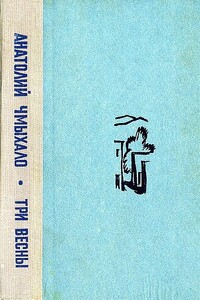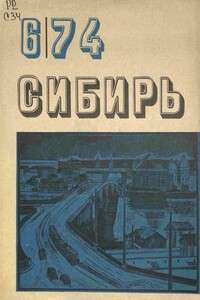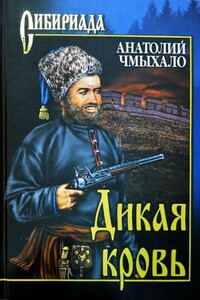Половодье. Книга вторая | страница 42
Она порывисто подошла к шкафу, достала краюху хлеба, сунула ее в карман вязаной кофты. С присвистом потянула ноздрей табак и выпрямилась, суровая, побледневшая.
— Ночью до Лысухи наведывайся, отелиться должна, — сказала мужу.
Верхом Домна уехала в степь с твердой решимостью найти сыновей. Она не знала, что им скажет, но непременно заберет из отряда и отправит куда-нибудь подальше. Не позволит мать разбойничать сыновьям, не для такой шалой доли родила и вырастила их Домна.
Любка видела, что свекровь в гневе, и не осмелилась спросить у нее, куда и зачем едет. Про это рассказал невестке Макар Артемьевич. Весь день он, как раненый зверь, прометался по комнате, а к вечеру стих, пожаловался на головную боль и послал Любку за водкой.
В Покровском уже многие слышали о налете на ярмарку. Целовальник с ехидцей хмыкнул, подавая Любке бутылку. А пьяные бабы с Подборной, что околачивались тут же у прилавка, вздернули носы. Любка молча завернула посудину в угол шали и выскользнула из лавки. Обида давила грудь, просилась наружу слезами.
Уже у самого дома Любку остановила Морька. Повела плечом, откровенно призналась:
— Счастливая ты: в шелках ходить будешь. Разоденет тебя Ромка, как паву. А у меня ить жизнь горемычная. Неоткуда обновки ждать.
Опять смолчала Любка, но дома не выдержала. Забилась в кладовку и расплакалась, положив голову на порожние, пыльные мешки. С обидой и еще не осознанным чувством враждебности думала она о приказчике, о Морьке, о пьяных бабах с Подборной. Любка верила Роману. Он был порой горячим, порой непрощающим, но никогда его нельзя было упрекнуть в бесчестии.
Душа Любки была теперь частицею Романовой души. И Любка понимала: в слухах о налете на ярмарку что-то преувеличено, что-то совсем не так. Нет, не надо Роману и Любке чужого добра! Не польстятся они на чужое!
Вот вернется Домна, и все узнают, что ничего страшного не случилось. И не о чем будет судачить Морьке. Разве что снова кого-нибудь ославят. Люди не могут без этого…
Затемно явились кузнец Гаврила и дед Гузырь. Зашли попроведать Макара Артемьевича. Гаврила в одной рубахе, широченной, холщовой. Так он всегда ходил весной. Едва стаивал снег, как Гаврила снимал с себя полушубок, чтобы снова надеть его лишь с первыми зимними морозами. То ли уж горячий такой, в кузнице прокалился, то ли одежду жалел — кто его знает.
Пока Гаврила вытирал сапоги у порога, дед Гузырь вертелся вокруг него. Улыбка невольно пробежала по лицу Макара Артемьевича: до того хилым показался ему дед. Дунь посильнее — и помрет Гузырь. А ведь тоже ершится, впалую грудь норовит колесом выгнуть.